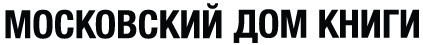– Толя, вы только что сыграли генерала Хлудова. Какие у вас были отношения с пьесой до начала этой работы?
– «Бег» я знал с юности, но только по фильму, от которого сразу получил сильнейшее впечатление. Уже позже, в театральном институте прочел пьесу и понял, что это одно из самых сложных и мощных произведений Булгакова. Сейчас, во время репетиций, Сергей Васильевич как настоящий булгаковед открывал нам много малоизвестных фактов, например что «Бег» имеет пересечения с «Мастером и Маргаритой» и что изначально он был написан в совершенно другом, фантасмагорическом, гофманианском стиле. Потом по желанию МХАТа Булгаков переписывал пьесу, дополнял яркими жанровыми сценами. Эти два произведения писались иногда параллельно, и многое от одного героя Булгаков отдал другому, они связаны и душевной болезнью, и муками совести. «Мастер и Маргарита» считается последним произведением автора, но оказывается, это не совсем так – Булгаков переписывал и «Бег» до последнего. У меня была сложная задача еще и потому, что я играю Мастера, и во время репетиций у меня даже был пунктик – найти другие краски. (Смеется.) И я чувствовал огромную ответственность, так как это первая работа Сергея Васильевича в качестве худрука.
– Кто из героев у вас вызывает наибольшую симпатию?
– В память из фильма врезались три персонажа. На первом месте стоит Хлудов, потому что абсолютно магнетический глаз Дворжецкого – это такой визуальный образ, который впечатывается в подкорку, хочешь ты этого или нет. И это тоже довлело во время работы. Кроме него мне запомнились Серафима и Голубков. Видимо они, эти интеллигентные люди, в юношеском, лирическом возрасте были созвучны мне. Трогала хрупкость Савельевой. Мне было неимоверно жалко ее Серафиму, и тонкая линия любви на фоне их скитаний тогда очень в меня попала. Хотя там жалко почти всех, они все – скитальцы. И фильм – трагический, о людях, попавших в жернова истории.
– Если бы сейчас у вас была возможность выбрать роль, то кто б это был?
– Конечно, Хлудов. Я знаю, что это мое, – и по теме, и по психофизике. Но если был бы помоложе, то хотел бы сыграть Голубкова.
– Вы играете в театре много классики. Случалось ли, что не увлекались автором, а потом открывали его для себя по-новому в работе?
– Нет, такого, чтобы я открыл для себя какое-то произведение и влюбился в автора благодаря театру, не было. С Чеховым и Булгаковым любовь была задолго до того. А роли, которые я получил в театре, – это совпадения и такие подарки, потому что я обожал «Дуэль» и «Мастера и Маргариту». И первая большая роль в МХТ – Шервинский в «Белой гвардии» в постановке Женовача – была очень важной, этапной и знаковой для меня. А вот Гончарова в литературном виде с трудом воспринимаю. Все три его «О» мне казались и кажутся тяжелыми для чтения. Экранизации, на мой взгляд, получались намного сильнее. Встреча с «Обрывом» в театре ничего нового мне не принесла, это довольно традиционная постановка.
– У вас в этом сезоне произошла встреча с Толстым в спектакле Дмитрия Крымова «Серёжа»…
– Это прекрасная встреча. Первая и с Толстым, и с Дмитрием Крымовым. Работа мне очень нравится, это для меня какой-то новый шаг, новая ступень. Я очень ценю Диму, мне безумно импонирует его подход к произведениям. Я понимал, что Каренин – мой персонаж, но не чаял, что он ко мне придет. (Смеется.) Хотя, признаюсь, больше всего у Толстого люблю «Войну и мир», но и «Анну Каренину» тоже. Чехов, Толстой, Достоевский… Они все разные, по-своему магнетические. Но Толстой, я считаю, из них самый тяжелый для интерпретации в театре и кино из-за очень тонкой внутренней организации. У Достоевского все-таки во всех произведениях есть экспрессия и некий детективный сюжет, что работает на руку. Я играл Ивана Карамазова в сериале у Юрия Мороза, но мне этого мало. (Смеется.) Может быть, Фёдор Михайлович еще придет ко мне. (Улыбается.)
– С кем из его героев вы себя идентифицируете как актер?
– По молодости, когда я смотрел «Идиота» со Смоктуновским, у меня было о себе представление как о Мышкине. Позже уже думал об Иване Карамазове, и это произошло. Мне очень нравится, пусть и небольшая, встреча с Куприным в одноименном сериале, потому что классический материал преображает тебя изнутри, это другой настрой, другой глаз, другое самочувствие и, конечно, костюмы, стилистика, речь… Все другое. Я бы с удовольствием еще встретился с классикой в кино.
– Уже несколько лет вы очень плотно занимаетесь поэзией. С Лизой Боярской сыграли в спектакле «1926» по переписке Пастернака и Цветаевой. Посмотрев, я сделала вывод, что Пастернак был более земным, что ли, и человечным, чем Цветаева.
– Я бы сказал, что он просто жил в более реальном мире. В этом и кроется его внутренний конфликт, его неврастения, комплексы. Мы лепили образ из биографических фактов. Человек, живущий в Советской России и никак не вписывающийся в эту новую страну, пытается осмыслить революцию и не может этого сделать даже на уровне своего философского факультета. Он живет здесь, она – там. Она оторвалась от реальности и более бескомпромиссна, сказала: «Нет, я не буду здесь жить и не буду сотрудничать с этой властью». А его даже современники описывают как помогальщика по своей сути, он очень хотел вернуть Цветаеву в русло русской культуры, вернуть в Россию.
– Она вернулась, и случилась трагедия…
– Так в том-то и дело. Но он понимал, что она великий поэт, а они не могут существовать в отрыве от своей культуры и языка. Конечно же, это была платоническая, совершенно неземная любовь, но их переписка очень страстная. Режиссер Алла Дамскер взяла для темы спектакля именно 1926 год, потому что это был год накала их страстей, когда он рвался к ней, а она – к нему, но оба понимали, что это почти неосуществимо.
– Они виделись до этого?
– Один раз, в 1922 году. Он влюбился в ее талант, в ее гений, и отсюда черпалась эротическая энергия. Они ссорились, но любили друг друга безумно, это абсолютный высокий романтизм. А такие натуры часто стремятся к сознательному саморазрушению. У Булгакова есть выражение, мы часто вспоминали его на репетициях: «Тот говорил, возносясь в гибельные выси». Оттуда они черпали вдохновение. Он тоже не земной, у него тоже были свои горние дали и небесные сферы, но он жил в Советской России и вынужден был приспосабливаться.
– Так и у Пастернака есть фраза «Гибельный восторг». Но при всем этом он не мог бросить больную жену…
– Конечно. У него были жена, ребенок… Цветаева пишет в конце: «Он слишком сострадательный». А она в человеческих отношениях была очень жесткой, просто фурией, имела кучу романов. Но мы исследуем гениев, которых нельзя мерить как всех. У них свои критерии, свои отношения с жизнью, с Вселенной, с богом.
– Поэзия – это отдельный слой литературы, далеко не все артисты горят этим. Когда и благодаря кому вы влюбились в нее?
– Это все из семьи идет. Мама очень любит стихи и поначалу читала мне, а потом давала книги детских поэтов и не только. Когда я уже поступил в театральный институт, на одном курсе со мной учился Влад Маленко, который ввел меня в поэтический круг. Было такое объединение молодых поэтов «Железный век». Но сам я очень долго не обращался к поэзии. Влад поддержал этот огонь, который опять разгорелся, я стал открывать новых для себя поэтов, как, например, моего любимого Бродского, до института я не знал его стихов, как и особенно Пастернака. Все началось именно в начале 1990-х. Мой кругозор расширялся, я понял, что люблю это дело. Но все равно первые поэтические программы появились много позже. Я просто учил стихи для себя. У меня все время не доходили руки до чего-то большего. И только когда меня пригласили в программу «Послушайте!» на канал «Культура», почувствовал в себе силы и желание двигаться в этом направлении и дальше. Потом был поэтический спектакль «Триптих» – Мандельштам, Пастернак, Бродский, меня это захватило еще сильнее, я понял, что хочу создать проект, где можно будет экранизировать стихи. Сейчас езжу с программой «Кинопоэзии», для меня это уже кусок хлеба, что позволяет отказываться от неинтересных съемок. (Улыбается.) В последние два года я объездил со стихами довольно много городов – Омск, Рязань, Ульяновск, Тверь, Рига, Самара, Тольятти… Есть программы с Алёной Бабенко, с Катей Шпицей, когда позволяют условия, берем с собой джазовых музыкантов. Так что вечера «Кинопоэзии» – это не лирические встречи при свечах, а живые, экспрессивные, с джазовыми импровизациями.
– А что за проект «Другой Пушкин», который вы планируете снимать в рамках «Кинопоэзии»? И кому принадлежат идеи мини-фильмов?
– В основном режиссерам, я только генератор идеи. Почему мы называем проект «Другой Пушкин»? Потому что хотим снять некий манифест, состоящий из компиляции разных строк стихов о свободе, в том числе малоизвестных. Киноязыком этого еще никто не прочитал. Что касается мини-фильмов, это формировалось довольно стихийно первое время, в 2016–2017 году. Были какие-то тематические истории, например давал деньги Парк имени Горького ко Дню города, мы сделали два фильма о Москве, потом зоопарк предложил идею, мы сняли ролик для детей о животных. Сейчас проекту живется нелегко, до сих пор нет генерального партнера, поэтому мы всегда находимся в поиске финансирования. Пробираемся сквозь косное сознание чиновников. Нас спрашивают: «А какой у вас охват аудитории? Нет миллионов просмотров, ну, тогда неинтересно». Мы на Пушкина хотим сами собрать средства, чтобы не зависеть ни от кого. Благодаря прокату мы теперь на слуху, многие уже смотрели в кинотеатрах наши сборники-альманахи. Мы собрали в них практически все, что у нас было снято на сегодняшний момент, это более сорока фильмов. Поэтому следующие прокаты будут, когда снимем следующие сорок фильмов. (Смеется.) Нет, конечно, мы постараемся показывать еще, но это все непросто. Многое держится на энтузиазме и творческом порыве людей. Позавчера мне написал один режиссер, что хочет бесплатно снять фильм, просто душевный порыв. Я говорю: «Давай. Подумаем, какой у тебя любимый автор, произведение». Но поиск денег – не мой конек. Мне нужен толковый человек, который бы загорелся этим так же, как я, и двигал проект. Большинство смотрят фильмы в YouTube, были показы и на канале «Культура», ктото просто слышал о проекте.
– Ваши дети Максим и Вика любят поэзию?
– Не скажу, что они взахлеб читают стихи, как папа, но любят наш проект, учат стихи в школе, причем легко и с удовольствием. Максим говорит: «Папа, я вырасту, буду тебе помогать с “Кинопоэзией”!» (Улыбается.)
– У вас остается время на то, чтобы что-то читать или перечитывать не для работы?
– Я настолько загружен в последнее время, что это случается, к сожалению, редко. Хотя перечитал «Анну Каренину». Но сейчас, скажу честно, настольной книги у меня нет, не лежит она на тумбочке у кровати, и ничего нового я для себя не открыл недавно.
– А в книжный магазин любите заглянуть?
– Иногда делаю такие набеги. Стараюсь следить за новинками, но хорошей литературы появляется так много и она настолько объемная, что я не могу похвастаться тем, что перечитал все последние современные романы, бестселлеры. Наконец-то приобрел «Авиатора», «Цитадель» у меня уже была. Не так давно покупал мемуарно-историческую литературу в контексте «Бега». Сергей Васильевич посоветовал, чтобы войти в образ, почитать о генерале Слащёве (это прототип Хлудова, антагонист Врангеля), да и вообще о Белом движении.
– Есть книги, которые вы не разлюбили за годы, которые всегда с вами?
– В основном это сборники стихов, к которым я периодически возвращаюсь. У меня в кабинете на расстоянии вытянутой руки стоит маленький карманный Бродский и его собрания сочинений – под рукой, как и остальная поэзия, о которой мы говорили. Как-то мне этого хватает. (Улыбается.)
Электронная версия материала, опубликованного в №7-8 журнала «Читаем вместе» за июль-август 2019 года
Интервью: Марина Зельцер
Фото: http://m.kino-teatr.ru