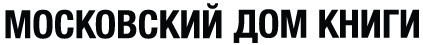— Алла, одна из ярких премьер сезона в театре Олега Табакова – «Моя прекрасная леди» в вашей постановке. Вы рассказывали, что с детства любили эту историю.
— Да. Это так. Мысль поставить это присутствовала в моем подсознании всегда.
— О чем ваш спектакль, прежде всего?
— Для меня здесь на первом плане история учителя и ученика, поскольку за спиной уже тридцать шесть лет педагогики, это очень важная часть моей жизни. Естественно, я влюблялась, были романы с учениками, и это нормально, так должно быть. Это один из главных элементов созидания. Поэтому и рождаются великие литературные произведения, музыкальные, драматические, все рождается из-за любви. Только она является толчком к творчеству.
— Вы сразу увидели своего Хиггинса в лице Сергея Угрюмова?
– Угрюмов меня интересовал очень давно. Он артист с огромным потенциалом, и у него совершенно неординарная внешность, мужская скульптурность лица, тела, очень красивые руки, которые просто завораживают…
– В вас говорит хореограф…
– Естественно. Для меня тело – это сигналы, я их вижу и реагирую на то, как человек идет, как поворачивает голову, как берет за руку, для меня все это очень важные знаки. Надо сказать, мне интересно наблюдать за Сергеем. И не только в спектаклях и кино, но и в процессе репетиций – просто как за человеком.
– Сергей сразу принял ваше предложение, он же не поющий артист?
– Он сопротивлялся до последнего патрона! (Смеется.)
– Сопротивление такой прекрасной женщине? Он наверняка пал…
– Мне кажется, он никогда не падает от женщин, стоит насмерть. (Смеется.)
– Его герой тоже стоит практически насмерть в этих баталиях…
– Мне все говорят, что проще было бы поменять Виталика (Виталий Егоров, полковник Пикеринг) и Сергея местами, но мне неинтересно идти легким путем. Даже Машков сразу сказал: «Виталик, конечно?» – а я ответила, что нет, через некоторое время дам ответ. Пересмотрела все, что связано с Угрюмовым, и поняла: вот он, мой Хиггинс – сложный, тяжелый, таким он и должен быть, ведь от него все отшатываются. А Виталик прелестен, очарователен, само обаяние – идеальный Пикеринг. Вообще этот спектакль – про счастье! Моя история взаимоотношений с Театром Табакова достаточно большая, и то, что после Олега Павловича худруком стал Владимир Львович – человек, с которым связана моя молодость, – прекрасно! Мои актеры видят, с какой нежностью и вниманием он ко мне относится, и пытаются этому соответствовать. (Смеется.)
– Выбирая материал для постановки, вы больше отталкиваетесь от музыкальной первоосновы или литературной?
– Каждый раз по-разному. Для того чтобы воспылать, чтобы появился импульс к фантазии, нужна какая-то деталь: слово, даже не фраза, звук или поворот головы, руки, жест… У меня все идет от мелочей.
– А в спектакле МХТ имени Чехова «XX век. Бал» вы тоже отталкивались от мелочей, частностей? Это же целое историческое чувственное полотно…
– Да, тоже от частностей. От своего детства, от запаха маминых рук, от того Ленинграда, от тех людей, с которыми общалась тогда, а они дотронулись еще до Серебряного века. Мне хотелось вспомнить это, остановить, зафиксировать мгновения.
– Многие люди и тот же Ленинград наполняли вас все эти годы, но идея сделать такую историю пришла только сейчас? Или встреча с Эрнстом повлияла?
– Встреча с Константином Львовичем произошла уже после того, как у меня появилась идея постановки. Я сама ему ничего не предлагала, он пришел на «Катерину Ильвовну» в Театр Табакова и спросил, что я буду делать дальше. Рассказала ему про свою идею, на что он ответил: «Давай делать вместе, это классно!» Произошла счастливая история – вдруг я получила такого замечательного, уникального собеседника и соавтора.
– Мне кажется, поставить «Бал» было гораздо сложнее, чем даже огромное, со многими линиями литературное произведение…
– Конечно, потому что там есть материал, а здесь его нужно было сочинить. Алвис Херманис, мы недавно виделись с ним в Риге, говорит, что в работе со студентами одна из его главных задач – научить их сочинять материал для спектакля. И не только сцену, акт, но и большую форму.
– Как в «Бале» происходил отбор исторических событий и литературных, театральных, кинематографических произведений? Ведь зрители увидели фрагменты из «Трех сестер», «Вишневого сада», «Оптимистической трагедии»…
– Самым сложным был именно отбор, потому что я захлебывалась от воспоминаний. Мы с Костей сразу договорились: десять минут на каждое десятилетие, что, в принципе, нереально. Я стала думать, как же это сделать. Начала выписывать все, что для меня важно в конкретном десятилетии, потом раскладывать по историческим событиям и сопоставлять свое личное ощущение от них. Затем вспоминала все художественные события. И вот то, на что больше всего откликалась моя эмоциональная, чувственная память, в результате и вошло в спектакль.
– Флобер говорил: «Мадам Бовари – это я!» А вы о ком бы могли сказать так?
– Хиггинс – это я.
– Перечитывая какую-то большую литературу, вы меняли свой взгляд на героев, отношение к ним?
– Было бы странно, если бы вы относились к каким-то явлениям искусства или социума так, как в шестнадцать лет. Я меняюсь по отношению к произведениям искусства, потому что меняюсь сама. Книги в моей жизни были всегда. У нас дома очень большая библиотека. Многие книги со мной всю жизнь, с того момента, когда я еще не умела читать, а только рассматривала картинки. Помню огромные издания: «Эрмитаж», «Почему так названы?» – о Ленинграде, «Я – балерина» – о Татьяне Вечесловой, «Ленинградский балет сегодня». Все трудно перечислить.
– А Маршак, Барто в вашем детстве были?
– Нет. Когда я стала постарше, в мою жизнь вошли Жуковский и Гофман. А Барто и Маршак появились уже с моими детьми.
– А сказки Пушкина?
– Пушкин, конечно, был. У нас в доме вообще культ поэзии, и мы какое-то время каждое лето ездили в Пушкинские Горы. Все воскресенья проходили с томиками Пушкина. Всегда на привале читали вслух, это была традиция.
– Есть ли у вас книга, которая всю жизнь лежит на прикроватной тумбочке?
– Раньше без книги я просто не могла заснуть. Сейчас у меня в руках компьютер, и перед сном я читаю новости, какие-то статьи.
– Читаете о политике, о том, что происходит в стране?
– Безусловно. Я не могу быть оторвана от жизни, очень интересуюсь этим. Но мне кажется нормальным, что кто-то отодвигает от себя всю политическую составляющую, а я очень внимательно все читаю, смотрю, хотя никогда ни с кем ничего из этого не обсуждаю, кроме сына Миши.
– А с дочкой совсем не говорите об этом?
– Нет, она как раз замечательно себя отгородила от всего этого. А с Мишей мне интересно обсуждать политику, потому что он живет в другой стране и многое знает с иной стороны, и вообще я могу получить от него тонну информации.
– Он ходит на ваши спектакли?
– Да, он все смотрит и вообще в курсе всех событий моей жизни, очень подключен к ней.
– А какова роль литературы в жизни ваших детей?
– Миша очень близок с литературой, он и сам пишет. У Ани и здесь все немножко по-другому, но это нормально, все дети разные.
– А какие книги были у них в детстве?
– Я их ориентировала на то, что мне было интересно, и самое замечательное, что с ними прошла то, что сама не проходила. Это, конечно же, Чуковский, Барто, Маршак. Все эти авторы прекрасны, их произведения я теперь знаю наизусть. Жалею, что их не было со мной в детстве.
– Сергей Урсуляк назвал и сегодня одной из своих самых любимых книг «Денискины рассказы» Драгунского…
– Это тоже одна из моих любимых книг. А еще у меня была удивительная книга «Та сторона, где ветер». Потрясающая, особенная книга о детстве, о мальчишках. Кстати, Миша быстро стал читать на английском языке, лет семь вообще ничего на русском не читал, но сейчас все вернулось – и интерес к русской литературе и русскому языку.
– А фильмы наши смотрит?
– Он про кино старается знать все, это его профессия.
– Вы сказали, что поэзия всегда с вами. Менялись ли имена в вашем списке?
– Естественно, все, что касается Серебряного века, – мое. Я яростная поклонница Маяковского. И Евтушенко, Самойлов, Бродский, Левитанский… их всех люблю.
– А Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Ахмадулина не входят в число ваших любимых, или это само собой разумеющееся?
– Конечно да, любовь к ним – это норма. Просто Давида Самойлова или Левитанского не так много читают, а эти поэты – первый ряд библиотеки.
– Вы в школе любили учить стихи наизусть?
– Это для меня было мукой, потому что я не могу относиться к стихам как к техническому заданию. К сожалению, в школе очень многое делалось так, что отвращало нас от того или иного предмета.
– Ваша точка зрения на трактовку произведений в школе или в хореографическом училище часто отличалась от общепринятой?
– Конечно! Поэтому меня и выгоняли три раза из училища. Я открыто обвиняла педагогов в банальности и тенденциозности трактовок литературных произведений.
– Вы уже в раннем возрасте читали много запрещенной литературы и понимали, что этой информацией не надо делиться…
– Я жила среди людей, которые вернулись из ГУЛАГа, а это определенное воспитание. Многое из такой литературы было мной прочитано лет в двенадцать. Это был очень серьезный удар по психике.
– У родных и близких не было желания оградить вас от этих переживаний?
– Нет, они считали, что это обязательно надо читать. Каждый человек взрослеет и развивается по-разному и потому готов воспринимать в зависимости от своего развития, общими мерками здесь нельзя мерить. Я узнавала из этих книг о том, как жили люди, которые меня окружали. Для меня это было важно и очень многое мне дало.
– Первые ваши книги были о балете, о разных видах искусства. А когда пришла любовь к мемуарам?
– К ним я пришла лет десять назад.
– Случайно попалась какая-то книга?
– Случайно мне ничего не попадается. Пришел момент переосмысления прочитанного, увиденного, прожитого.
– Чьи-то мемуары стали для вас знаковыми?
– Мариенгофа.
– Как вы решились взяться за свою книгу «Счастье мое»?
– У меня появилась необходимость поблагодарить людей, которых я любила и люблю, которые меня формировали. Писать о себе мне неинтересно, я не занимаюсь собой, занимаюсь людьми.
– Как вы ее писали?
– Была испробована масса вариантов. Я поняла, что меня бесят люди, которые меня спрашивают, или человек, который записывает. Поэтому взяла шариковую ручку и стала писать. Это тяжело, на сгибе кисти потом вылезла шишка, перетрудила руку.
– Сколько времени у вас ушло на книгу?
– Полтора года. Но я не писала постоянно, у меня не так много времени для этого, я же не писатель. (Улыбается.)
Электронная версия материала, опубликованного в №9 журнала «Читаем вместе» за сентябрь 2019 года
Текст: Марина Зельцер
Фото: http://max-pix.com