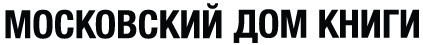- Сергей, во время карантина вы с другими артистами театра «Современник» читали рассказы Чехова. Как их выбирали?
- Я взял пять томов Чехова и просто листал их по диагонали, где-то читал пару абзацев, где-то - страницу, а потом, бах, чувствовал, что хочу именно это. Кстати, увидел и те, что были в новинку. Повести все знаю, а вот среди рассказов оказалось что-то упущено. Например, «Циника» я не читал.
- Вы играли Лопахина в «Вишневом саде». А как-то сказали, что сыграли бы самого Антона Палыча.
- Да, хотел когда-то. Но в моем возрасте делать это уже нельзя ни в кино, ни на сцене. Поезд ушел. Но если бы мне в руки попалась пьеса, с которой все-таки появилась возможность попробовать сыграть Чехова, то не знаю, кто бы ответил: «Я не хотел бы».
- А с кем из писателей, если была б такая возможность, вы бы хотели дружить?
- Дружить – это слишком фантазийно сказано. А вот если просто представить, что Господь Бог позволил мне с кем-нибудь из них поговорить, то я бы в первую очередь спросил его: «Можно я назову хотя бы трех-четырех человек? И если бы он дал мне по минуте на каждого, я бы назвал Гоголя, Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова. Наверное, еще с Шекспиром и с Шукшиным пообщался бы. Не знаю, какой вопрос задал бы им, но, если бы мне разрешили только услышать от них по одному предложению, это уже было бы величайшим чудом моей жизни. Все они в прямом смысле слова были пророками. Скажем, Достоевский в переписке со своим издателем, они вели полемику о французской революции, вернее о революциях вообще, пишет: «Где-нибудь в начале XXI века какой-нибудь блузочник приставит лестницу к «Сикстинской мадонне» и располосует ее сапожным ножом на части во имя всемирного торжества свободы, равенства и братства». И вот в начале этого века - разбитая Пальмира. Берем «Онегина», там Пушкин говорит, что дороги в России хорошими будут лет через пятьсот. Или в одном письме Вяземскому рассказывает: «А у нас тут новости под названием «рауты» – веселиться в стоячку. Ходишь, наступаешь друг другу на ноги, извиняешься, вот тебе и замена разговору». Это же просто описано, что такое фуршет (смеется).
- А как вам кажется, в своих произведениях великие писатели проявляются как люди, можно понять, каковы они сами?
- Понимаешь, когда ты будешь читать Чехова и станешь думать о том, какая интонация исходила не от персонажа, а от автора, то тебе одна покажется такой, а мне – другая. Хотя можно проследить, как писатель менялся, что с ним происходило и даже понять, что он за человек, но не по всем, наверное, произведениям. Например, у Набокова, который мне казался очень самоуверенным, знающим себе цену, есть прекрасный двухтомник «Лекции по зарубежной литературе» и «Лекции по русской литературе», изданный у нас. Читая его лекцию в разделе «Достоевский», вы будете много улыбаться. Он пишет, что основная струна, на которую все нанизывал Достоевский, – это психическое расстройство и что он сам больной человек. Но если читать внимательнее, в этом сквозит вопрос: «Почему я так не могу?». Он не отрицает гениальность Достоевского, но пытается сделать Федора Михайловича чуть меньше, чем он есть на самом деле, находит некие изъяны, и ты понимаешь, что он просто исходит жгучей завистью.
- Владимир Владимирович Познер говорит, и он не одинок в этом, что исходя из произведений Достоевского можно сказать, что он сам был плохим человеком, иначе не смог бы так достоверно описать ужасные пороки.
- У меня как-то была прекрасная беседа с Владимиром Владимировичем. Мы сидели в аэропорту, у обоих задерживались рейсы. Начали с анекдотов, потом немного поговорили о дне сегодняшнем, о кино, о литературе. Но я бы не сказал, что Достоевский был плохим человеком, наверное, очень закрытым. И в какие-то минуты для современников мог казаться совсем неузнаваемым, например, когда играл страстно. Достоевский — это скопление самых разных настроений и черт, в нем много тонкого, трогательного. Когда они с женой были в Европе, и он ждал очередного транша или займа, у них катастрофически не было денег на жизнь, он страшно проигрывался, то, проходя днем мимо портье, сообщал, что идет обедать. И я вижу в этом не понты, у него не было цели обмануть, это было что-то очень личностное, шло от какого-то стыда. Кстати, слово «стыд» Достоевский часто использует, и мог его совершенно неожиданно вставить. Например, Федор Палыч Карамазов, который был известным сладострастником, в своих речах перед Алешей и Смердяковым говорил: «Женщину, прежде всего, нужно удивить. Удивить до потрясения, до восхищения, до стыда». Это же надо такие слова, одно из которых смыслово совершенно выпадает отсюда, поставить в один ряд. И он это делает органично, благодаря тому, из чьих уст это произносится.
- Бывали ли случаи, что, столкнувшись в работе с произведением или автором, вы вдруг что-то неожиданное в нем открывали?
- Бывало, что театр или кино вдруг подавало мне литературу совершенно не так, как я ее воспринимал или понимал. И мне это нравилось. У меня была дипломная работа по речи – монолог Мити из «Братьев Карамазовых», я вообще люблю этот роман, а потом у нас в театре был спектакль «Карамазовы и ад». Благодаря всему этому я глубже узнал Митю, и не только его, но и Федора Павловича. Когда мы уже репетировали «Карамазовых», я вдруг почувствовал, глядя со стороны на образ Смердякова, что чеховский Яша в «Вишневом саде» – это вылитый Смердяков. Он говорит: «Я Россию всю ненавижу» или «Если бы Наполеон нас завоевал, было бы намного лучше», а Яша выдает абсолютно те же мысли, просто другими словами: «Жить здесь невозможно, заберите меня отсюда» … И я уже в достаточно взрослом возрасте позвонил своей преподавательнице Инне Соломоновне Правдиной и спросил: «Это что такое, заимствование Антона Палыча?», на что она ответила: «Нет, Сережа, понимаешь, все проще. Это называется расхожий тип», то есть, условно говоря, в те времена было достаточно много людей, которые модничали такими речами. Начиная с бонапартистов, своего рода фанатиков.
- Вы говорили, что в «Горе от ума» с Римасом Туминасом не до конца дошли до того, чего он хотел. Вы поняли больше о Фамусове?
- Я и сейчас повторю, что Римас до такой степени великий режиссер и театральный философ, что проникнуть даже до середины его замысла и воплотить мне точно не удалось. Не хватило ни ума, ни таланта. Но мне дорого, что он моему Фамусову подарил такие мгновения и действия, которых я у него и не предполагал. Например, я захожу с улицы и сам заношу связку дров в дом – значит, в быту он не напыщенный, а простой и очень любящий дочь. «Горе от ума» - единственный случай в моей жизни, когда я принял сокращения в тексте. Я бы на режиссера с ножом кидался и кричал: «Вас нужно посадить в тюрьму!», если бы мне сказали: «Давайте, будем ставить Чехова или Грибоедова, и покромсаем его». Я был в этом смысле страшно упертым. А когда Римас сделал купюры в «Горе от ума», мой пафос заткнулся не просто от одной любви к Туминасу, а потому что он, не скрывая этого, делал свое произведение на основе пьесы. И это было до такой степени доказательно, что хочешь - не хочешь, нравится или не нравится тебе, но нужно было признать, что это талантливо. И потому я не восставал. Хотя не могу назвать себя в этом смысле консерватором или ретроградом, я не против того, чтобы играть Достоевского в современной одежде, если это убедительно. Но зачастую обидно, когда автора пытаются подать современно только за счет формы.
- Знаю, что, дождавшись выхода фильма «Мастер и Маргарита», вы убедились, что есть произведения, которые вообще лучше не трогать. Что еще для вас в этом смысле неприкасаемое?
- Некоторые вещи Гоголя, Бунина, Булгакова и, наверное, Гофмана настолько мощные по своей энергетике, мысли, оригинальности, что они по каким-то неведомым нам законам, а где-то и ведомым, просто не поддаются инсценировкам и экранизациям. «Мастер и Маргарита», за исключением первого спектакля в театре на Таганке, причем, скорее всего из-за того, что там был Давид Боровский и Высоцкий, никому не удался. Но если бы собралась какая-нибудь филологическая комиссия и стала бы сравнивать его с текстом Булгакова, возник бы серьезный спор. Очень давно Роман Козак написал потрясающую инсценировку для маленькой сцены - путешествие двух персонажей по роману «Мастер и Маргарита». Начиналось с Азазелло и кота Бегемота, потом они становились Берлиозом и Бездомным, Иешуа и Пилатом, а в конце - Мастером и Маргаритой. Это было предложено сыграть мне и Марине Нееловой. Мы загорелись невероятно, просто пылали проектом, но через полтора месяца прекратили все по собственному желанию. Поняли, что много говорим, много фантазируем, но никуда не двигаемся. Но вначале мы с Ромой пошли к своей учительнице Алле Покровской, и она сказала: «Остановитесь». Привела в пример фразу из романа «Как из жары, из воздуха вдруг соткался клетчатый» и объяснила: «Он у вас этот клетчатый и соткался, и так правильно появился в вашем сознании, что вы попадаете в этот мир, а как только клетчатый выходит из-за кулис, начинает исчезать Булгаков». Какие-то произведения Гоголя, безусловно, очень пригодны для сцены и для кино, и «Ревизор», и «Женитьба», но сказать, что у нас есть замечательное воплощение «Мертвых душ», было бы самоуверенно. Весь мир понимает прелесть рассказов Бунина, и об экранизации цикла «Темные аллеи» мечтали и Феллини, и Антониони, и Висконти. Но вся гениальность «Антоновских яблок» в том, что, читая, ты и прямо ощущаешь запах этих яблок. Попробуйте снять так же. То же самое с «Темными аллеями». И не нужно сюда припутывать мистику. Совершенно очевидно, что невозможно пытаться делать Платонова. В звучании и изображении мелодика его языка превращается во что-то другое, малопонятное и запутанное.
- Вам повезло столкнуться в работе и с гениальной советской классикой: с Шукшиным, с Володиным…
- Да, повезло. Увы, новая российская театральная и кинодраматургия не достигает того уровня, какой была в Советском Союзе с Габриловичем, Черныхом, тем же Шукшиным, Габриадзе с Данелией, Радзинским, Вампиловым, Володиным... Когда Галина Борисовна Волчек предложила к пятидесятилетию театра повторить в «Современнике» «Пять вечеров», я закричал: «Нет, я не смогу!». Я безумно люблю фильм Михалкова. Но она как-то убедила меня попробовать. Понимаете, какая магия происходит: (наш спектакль – не фильм Михалкова, это совсем другое) ты просто прикасаешься к этому тексту, и он тебя поглощает с руками и ногами. Это счастье. Наверное, в список советской литературы надо обязательно вставить Довлатова. Это отдельная история и отдельная судьба. Как потрясающе сказал Евтушенко: «Кто были мы, шестидесятники? На гребне вала пенного в двадцатом веке как десантники из двадцать первого». Это было богом освященное время, сколько имен: Аксенов, Окуджава, Высоцкий, Ахмадуллина, Вознесенский, Рождественский… Довлатов не был в этой компании, и его не печатали тогда. А окажись он среди них, он был бы абсолютно точно таким же шестидесятником.
- А когда вы познакомились с его творчеством?
- Когда его стали здесь печатать. Я в самиздате прочитал Солженицына, Владимова, Войновича. Но Солженицына в этот список я бы никогда не вставил, в отличие от дорогого мне Шаламова. Это большущий удивительный писатель и человек. В ситуации, когда пистолет у виска, он мог иронизировать, блистать сарказмом и говорить с невероятной прямотой. Неспроста, когда ему звонил Солженицын, он трубку бросил со словами: «Вы где сидели, в санатории?». Сравнивать Шаламова и Солженицына с точки зрения лагерного опыта – это как небо с землей. Солженицын сидел в шарашке, к тому же срок у него был около семи лет, а у Шаламова с поселением - девятнадцать, и это Колыма, Магадан, Воркута. Когда я снимался в «Чонкине», то познакомился и даже подружился с Войновичем. Кстати, как-то я спросил его про Солженицына, а Владимир Николаевич был таким правдистом, с очень твердыми убеждениями, что он рассказал мне историю. Когда их с женой вытурили отсюда, они были без копейки денег. А Солженицын в это время уже жил в Ванкувере в имении, был барином. И Войнович из Германии пишет ему письмо с просьбой подсказать, куда обратиться, чтобы заработать. Он носил по издательствам свои произведения, но нигде ничего не платили. На что Солженицын написал ему: «Русский писатель пишет не за деньги». После этого они больше никогда не общались.
- Вы когда-нибудь испытывали ощущение счастья, приобретя какую-то книгу в годы дефицита?
- Тогда существовало общество книголюбов, они для артистов устраивали вечера, которые давали небольшой заработок. Я помню, как в 1985 году во время гастролей «Современника» в Иркутске, для меня они были первыми, мы устроили концерт, благодаря чему из каких-то запасников смогли купить абсолютно новое издание, цикл мемуаров декабристов. Мне достался Трубецкой и Лорер. Конечно, когда у тебя оказывался Булгаков или трехтомник Шукшина, это была радость, но, чтобы ходить и бредить какой-то книгой, такого у меня не было.
- Вы заглядывали в букинистические магазины?
- Я в «Букинист» заходил только с двумя целями. Первая – просто потрогать, полистать, потому что не являлся коллекционером, вторая - иногда мог купить там книгу для подарка. Рядом со Школой-студией МХАТ, в Проезде Художественного театра, ныне Камергерском, была букинистическая лавка, вот туда мы частенько заглядывали. А вот на третьем курсе Школы-студии МХАТ мы, три студента, устроились работать дворниками на Динамо на один участок. Дело было даже не в заработке, а в том, что нам дали трехкомнатную квартиру. Дом был под реконструкцию, то есть всех оттуда уже выселили, а он еще года полтора функционировал, был газ, вода, правда, только холодная, и отопление. Мы заканчиваем четвертый курс, а тогда недалеко было общежитие циркового училища, где Школа-студия арендовала помещение, проходим мимо нашего дома и видим, что уже идет реконструкция. Ради интереса решили заглянуть в свою квартиру. Там только-только начали вскрывать полы. И вдруг мы с другом одновременно что-то замечаем под полом и находим книгу Мариенгофа «Роман без вранья» 1925 года издания. Она была запрещенной, не издаваемой, поэтому видимо и лежала под полом.
- А где вы считаете, началось ваше серьезное приобщение к литературе: еще в юности или в Днепропетровское театральное училище?
- У нас было много хорошей детской литературы, например, Гайдар как абсолютный витамин добра, или «Незнайка» Носова. Фенимор Купер был прочитан мною рано, и кажется, в пятом классе я ознакомился с первой серьезной книгой – «Шерлоком Холмсом» Конан Дойля. Будучи же шестнадцатилетним студентом первого курса театрального училища, я прочитал «Живые и мертвые» Симонова. Большинство книг мы тогда брали в библиотеках, но у мамы с папой была библиотека, хоть и не большая, все, включая бабушку, любили читать. И, кстати, «Живые и мертвые», это было новое издание, купил папа. Помню, что роман произвел на меня мощнейшее впечатление. А вот в Днепропетровском училище занятия по литературе я в основном прогуливал, но, тем не менее, оно открыло для меня Шукшина и Распутина. Там же я прочитал единственное на то время произведение самиздата - «Один день Ивана Денисовича». Когда же в армии в последние полгода службы понял, что хочу ехать в Москву учиться дальше, то обнаружил, что очень многого не знаю из того, что прогулял. И тогда я там прочел Толстого, Шекспира, Мольера. Но настоящие уроки русской литературы для меня начались в 1980 году с поступления в Школу-студию МХАТ. Четыре года этого предмета – самая большая основа моего литературного багажа. Мне так повезло, что, когда я уже был артистом «Современника», мои взрослые друзья подарили мне просто сумасшедшую библиотеку, в которой половина антиквариата, есть, к примеру, полное издание Лескова 1893 года. Потом еще один друг подарил много книг. И сейчас у меня достаточно большая библиотека, я ее очень люблю.
- Вы как-то рассказывали мне, что у вашего сына существует обязательное чтение и просмотр фильмов, особенно о Великой Отечественной войне.
- Да. Я никогда не заставлял его ни в какие кружки ходить, но чего я требовал категорически, так это чтения. Мой папа тоже проявлял жесткость в этом вопросе. И с шести лет Ваня осознанно смотрит советские картины, делает это раз в неделю обязательно, хотя знает и современные фильмы. Совсем недавно, этого еще не было в программе его литературной школы, он читал «Бедных людей» Достоевского, сначала с трудом, а потом с удовольствием. В принципе, чтение для него не бич, как для многих детей. Во втором классе я его заставлял читать вслух рассказы Антоши Чехонте. И вот сейчас, когда мы делали программу «Доктор Чехов» он меня снимал как оператор в нескольких рассказах. И «Доктор», и другие очень взрослые и трагические произведения, ему понравилось. Меня это, безусловно, порадовало.
- Что будете читать в момент грусти, печали?
- Аверченко или Жванецкого, смешного много у того же Антона Палыча, который, описывая совершенно неудачливых, глупых людей, не прогоняет с твоего лица улыбку и не лишает тебя оптимизма. А, читая «Чонкина» Войновича, мы просто катались по полу. Но из грусти и печали необязательно выбираться смехом. Можно просто сменить объектив, начать читать Достоевского. Они прогоняются мыслью, увлечением и движением. Может быть, нужно просто пробежаться или прокатиться на велосипеде.
- Как вы относитесь к нецензурной лексике в литературе и театре-кино? Шукшин писал о самом простом народе, но обходился без этого…
- Я к этому отношусь здорово, как к русскому языку. В художественном исполнении и дозированно. Есть яркие примеры: Пушкин, Есенин… Но, когда в современных историях мат становится главным языком, средством и целью, это, безусловно, ужасает. И спасибо тебе огромное, что мы говорили о литературе (улыбается).
Интервью: Марина Зельцер