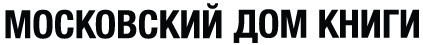- Алена, ты играешь роли из классической русской и зарубежной, из советской литературы, и из современной. Если бы тебе нужно было выбрать на год или два, в какой из этих ниш ты будешь участвовать, на чем бы ты остановилась?
- Сейчас я бы выбрала современную литературу и драматургию. С классической литературой я уже хорошо знакома, а вот сегодняшнее время мне безумно интересно, как и современная молодежь. Может быть, для нас непривычно, что они не так, как мы понимают человека, душу, по-другому интерпретируют что-то, но это и любопытно. Безусловно, есть моменты, которые мне не нравятся и даже раздражают, но я бы сказала, что они не современные, а атавистические, например, использование мата с оправданием, что так говорят в жизни. Я не люблю этого в искусстве. Как и документальность в современном театре. А вот переживания, рассказанные разным языком, мне интересны.
- Это тебе интересно и как актрисе, и просто как читателю?
- Да. Мне недавно прислали книжку «Убить Бобрыкина» Александра Николаенко. Это проза, написанная поэтически. Не оторваться от этой вязи. И конечно, Водолазкина мы не отменим с его размышлениями о вечном. Конечно, есть и другие, и очень популярные сегодня авторы. Их произведения могут быть смешными, но это совершенно не трогает, потому что не может трогать инструкция для мужчин, как обманывать женщин, по сути, рассказы для Патриарших прудов, не дальше. Но я думаю, что время все расставляет на свои места. То, с чем я сталкиваюсь в своем театре, мне очень интересно. Замечательный спектакль «Собрание сочинений», который поставил у нас Виктор Рыжаков по пьесе Евгения Гришковца, говорит о смене поколений, и, на мой взгляд, он точно встал в тему перемены нашего театра и сейчас уже доказал, что это спектакль «Современника».
- Недавно вышла книга Евгения Гришковца «Отчаянный театр, или Театр отчаяния», где говорится и о тебе в юности…
- Да, она у меня есть, подписанная автором. Он мне там уделил абзац. Для меня это очередные подарки с неба, потому что представить себе, что я буду играть в пьесе Гришковца, которого знаю со школьных лет, было просто невозможно. Мой двоюродный брат был первым подопытным кроликом в его театральных постановках в школе. Потом мы оказались в Москве, позже хотели поработать вместе, и вот появился Виктор Анатольевич Рыжаков, который знает Евгения с детства, но никогда с ним ничего не делал. И тут первая постановка нового худрука в «Современнике», и меня приглашают... И опять я оказалась в компании прекрасной, любимой Марины Мстиславовны Нееловой, а это роскошь. Недавно проходил фестиваль «Любимовка», нам присылали современные пьесы, и те, кто хотел, выбирал отрывок на десять-пятнадцать минут, чтобы прочитать его. Таким образом, я узнаю, о чем и как пишут молодые авторы. Мне кажется, в современной драматургии больше взгляда со стороны, чем изнутри, в этом есть некоторое отстранение и даже стеснение переживания, наверное. И в осмыслении - некая детскость, все стало более простым. Сейчас я не знаю, кого можно назвать современным Достоевским или Чеховым. Может быть, они есть, просто мы этого еще не понимаем. Наверное, так было и в чеховские времена, и в советские, а потом уже отбирались бриллианты, которые оставались надолго.
- Если бы тебе нужно было в книжный шкаф поставить по одному автору на каждую из трех полок, кто бы это был?
- Конечно, я бы выбрала Хемингуэя. Люблю этого дядьку, на стене в моей комнате в юности висел его портрет, он мне очень нравился, в том числе, внешне. У него прекрасные глаза и прекрасные романы. Вторая полка у меня бы была посвящена моим любимым личностям - Эдит Пиаф, Майе Плисецкой, Марине Цветаевой, Анне Герман. Это люди, книги о которых я собирала с детства. И обязательно стояла бы книга афоризмов разных авторов, потому что я коплю их мысли. А на третьей были бы русские сказки. Ведь если у меня есть всего три полки и три автора, то мне все равно никогда не выбрать тех, кого я перечитывала бы, а русские сказки без автора, и в них вся мудрость заключена. Хемингуэй и сказки ассоциировались бы с моим детством, а афоризмы и мысли – это то, чем я питалась бы в течение жизни, если бы была такая фантастическая ситуация.
- А на необитаемый остров что взяла бы с собой?
- Очень много музыки, я буду там плясать до бесконечности. Возьму телефон, закачаю туда кино, и стану смотреть и читать по интернету. А если не будет Интернета, возьму энциклопедию или фантастику с научной литературой, буду читать о самых современных открытиях. Это очень интересно, ты прорываешься в другой мир, закрытый тебе доселе. Сейчас у нас в театре идет работа над одним проектом, мы берем произведение, написанное в XVIII веке, начинаем его изучать, приходят драматурги, которые читают нам лекции, и многие артисты спрашивают: «Зачем? Как это поможет игре? Я не понимаю, я артист…». А я прямо с ума схожу, видимо, у меня наукообразные мозги, мне очень нравится в этом копаться.
- В твоей биографии есть Чехов. Что он для тебя значит?
- Мне еще надо встретиться с Достоевским и Шекспиром, и тогда я утешусь. Три автора, с которыми я должна переспать, как говорю. Чехов – вообще бездонная бочка, особенно сейчас я это ощущаю. Когда в зале сидит четверть зрителей, это дает некую свободу, вольность артисту внутри. Тебе кажется, что у тебя репетиционный период, прогон для своих, чтобы проверить зрительскую реакцию. Недавно сама была таким же зрителем на «Пяти вечерах» Рыжакова в «Мастерской Фоменко» и услышала разговор пары, сидевшей передо мной. Мне было интересно сравнить наш спектакль и их. В конце муж сказал жене: «Надо хлопать посильнее, потому что нас же всего три человека», и я тоже старалась хлопать погромче и подольше. И вот это невероятное объединение в зале показало, что, когда мы играем «Три сестры», зрители включаются в нашу историю гораздо активнее. Мы друг другу хотим доставить удовольствие в два раза больше, чем это было в обычном зале. Думаю, если бы Галина Борисовна это увидела, она была бы счастлива.
- Ты столько говорила о современной драматургии, и вот с таким азартом и любовью говоришь сейчас о классике…
- Я на классике родилась, я в нее вросла, не могу без нее жить, это мои корни. И я понимаю, что зрители ее слышат, понимают, а самое главное чувствуют. Но у нас есть очень интересный спектакль «Не мой выбор» на Другой сцене по стихам современных поэтов. И когда я слушаю какое-то сегодняшнее стихотворение, часто не понимаю, как это можно выучить. У сложного Бродского есть образы, метафоры, а тут иногда ты просто не успеваешь даже сообразить, как это слово склеено с другим, как это можно выучить по логике, по мысли, по чувству. И, тем не менее, спектакль идет час двадцать, а поэзию еще в пять раз сложнее слушать, чем прозу, но тут я ни на секунду не отвлеклась, так замечательно был придуман спектакль. Я считаю, что поэтические спектакли необходимы, например, у нас с Толей Белым есть поэтически-музыкальная программа, которую мы очень любим. Это очень интересный опыт для меня.
- И все-таки, что бы и кого ты еще хотела поиграть у Чехова?
- Конечно, Аркадину. Я же сегодня нахожусь примерно в таком же статусе, как она, и сын у меня взрослый. Я не мечтала о ней, просто именно сейчас вдруг поняла, что с удовольствием сыграла бы ее. Если тогда она ходила звездой, примеряла платья, то сейчас она была бы совершенно другой, без зонтика и всего остального. Мне было бы интересно рассказать, какова современная артистка. Она должна быть очень смешной. А свою Машку в «Трех сестрах» я просто обожаю, у меня собственная интерпретация ее. Маша – единственная героиня, которой совершенно все равно, поедет она в Москву или нет. Москва для нее – это Вершинин. Там, где любовь, там Москва. Это моя интерпретация, но Маша намекает в пьесе: «Если бы я была в Москве с вами, то…» Она единственный творческий человек, она читает романы, она играет на фортепиано, она понимает музыку и чувства. Какая Москва? Это у Ирины Москва вызывает восторг. А про что говорит Ольга, я вообще не понимаю. Я смотрю на нее и думаю, что она врет, когда говорит про Москву, себя убеждает, но сама в это не верит. Я бы хотела повторить сцену Маши и Вершинина на мосту, какой она была в первой постановке с Нееловой и Гафтом, потому что они оба там были совершенно невероятные. А мы так и не смогли это пока сделать. И мне бы очень хотелось так сыграть. Это уходящее чувство, которое надо сохранять, и это та сцена, которую надо передавать. А все остальное в отношениях Вершинина и Маши можно интерпретировать, как угодно.
- А какие прекрасные женские роли в пьесах Радзинского, многие из которых, мне тоже кажется, абсолютно твои…
- Ничего этого не хочу играть сейчас. Человек, который уже знает, что такое классика, владеет этими базовыми нотами, вдруг с ними выходит в другое пространство. Тогда возникает соединение, как тот же мост, что стоит у нас в «Трех сестрах». Я бы сказала, что «Современник» — это мост между прошлым и будущим. Как в песне «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь». Это замечательный образ. И кстати, на полочке с автобиографиями известных лиц Градский бы точно стоял, потому что когда-то в Томском государственном университете, где я училась на факультете прикладной математики и кибернетики, он приезжал к нам с концертом. А я в это время ходила в студенческий театр эстрадных миниатюр «Эстус». У нас было какое-то помещение за сценой, мы могли проникнуть туда после концерта. Я его слушала, была влюблена в него до беспамятства, в его сумасшедший голос. У меня мама - музыкант, поэтому все связано, и я сама пела. Когда Виктор Анатольевич пришел в «Современник», он спросил нас, что мы ассоциируем с этим названием, мы что-то говорили, но только сегодня я поняла, что это «Есть только миг…».
- Когда сын был маленький, ты его приучала к чтению?
- Я как обыкновенная мама ему все читала. Поскольку самой любимой моей книжкой была сказка «Маленький принц», я с нетерпением ждала, когда он вырастет и сам прочтет ее. Но этого момента не дождалась, и уже в два года пыталась ему читать. Было очень смешно, когда я уже заходилась в чтении и не видела, что он спит. Он и половины не слышал, а я заливалась слезами от сопереживания героям. Он так и не воспринял мою любовь к «Маленькому принцу». Мы все время читали, показывали ему кукольные спектакли, сочиняли какие-то истории, сказки. Красивых книг тогда почти не было, но зато появились журналы с большими, крупными, яркими заголовками, и по этим заголовкам я учила его читать. Естественно, у нас была прекрасная магнитная азбука. В три года он уже сложил «б» и «а», а потом у него около кроватки лежала стопка книг. Он очень любил их рассматривать. А когда научился читать, то мое утро было самым прекрасным временем суток, потому что он просыпался и мог спокойно сидеть и читать книжку час. Что касается школьной литературы, то я не особо следила за этим. Помню только, как учила его писать сочинение по «Тарасу Бульбе». Мы составляли план, я его мучила, кричала: «Никита! Я сейчас один раз тебе расскажу, как надо писать сочинение, и больше я с тобой не занимаюсь». Он злился, говорил: «Так нельзя писать». На что я ему отвечала: «Пиши так, как ты думаешь, не по шаблону. Получишь двойку, я тебя не буду ругать» (смеется). Потом смотрю - он бесконечно читает, особенно когда появился Интернет. Он гораздо умнее и образованнее, чем я.
- А в книжный магазин ты любишь ходить?
- Веду себя в книжном магазине, как с одеждой - придешь за носками, а уйдешь со шляпой, шортами и ненужной сумкой. Иду за «Лавром» Водолазкина, а параллельно: «Ой, еще одна книжка Довлатова, у меня ее нет, а вот этой тоже нет, и эту возьму на всякий случай, Цыпкина надо почитать, узнать, что это такое, Дина Рубина новая вышла». И получается, как некуда носить то, что накупила, так и с книгами. Недавно приобрела альбом Тарковского с кадрами из его фильмов, у меня его сейчас сын выдергивает.
- Есть ли какие-то наши или зарубежные экранизации, которые ты считаешь либо равнозначными произведению, либо лучше, чем оригинал?
- Я никогда не сравнивала книгу и кино. Книга – это литература, а там сценарий, взгляд режиссера, это все равно выжимка. Например, для меня английская «Анна Каренина» - прекрасная, наша режиссера Зархи - тоже, и Шахназарова - хорошая. Но с романом я не могу их сравнивать. Ты можешь соглашаться или не соглашаться с режиссером в отношении интерпретации литературного произведения, но я не переношу свои книжные впечатления в кино.
- Ты никогда после фильма не знакомилась с произведением?
- После кино я уже не читаю книжку. Например, я люблю фантастику, но посмотрев «Ариэль», не буду уже открывать это у Беляева. А если прочитала «Голову профессора Доуэля», с удовольствием посмотрю одноименный фильм. Когда я в детстве брала толстые книги, то читала их, можно сказать, по верхам, мне все время было интересно, что же там дальше. Я пропускала описания, какие-то подробности, линия действий, сюжет мне были гораздо интереснее.
- Многие описания я тоже не любила, вообще очень люблю в книгах диалоги, и потому всегда любила читать пьесы, и классические и советские…
- Правда?! Ненавижу. Для меня всегда было мучением читать сценарии и пьесы. Помню, меня посадили на Мосфильме читать сценарий «Водителя для Веры», я чуть с ума не сошла. Мне гораздо интереснее было за людьми там наблюдать, кто зашел, кто вышел, о чем говорили. Я отрывалась от текста, потом не помнила, на чем остановилась.
- И Чехова так же читала, с трудом?
- Нет, конечно. Какие-то пьесы я, безусловно, люблю. Это и раньше был Шекспир, Чехов, Вампилов, Володин. Мне очень нравились пьесы Радзинского, как лихо они написаны. А вот Островского я не понимала. Когда училась во ВГИКе, он мне казался ужасно занудным. Мы же по «Грозе» его изучали, я не понимала, как играть «Вот встала бы и полетела бы».
- Так это у него «Гроза» такая, я ее как не любила в школе, так и сейчас не люблю. Обожаю тонкие ироничные, хлесткие пьесы - «На всякого мудреца довольно простоты», «Волки и овцы», «Бешеные деньги», «Доходное место»…
- Конечно, прекрасны «Бешеные деньги», «Волки и овцы» - фантастические, просто я не чувствовала себя в его ткани. Я абсолютно героиня Чехова и Достоевского.
- А я тебя вижу, например, прекрасной Глафирой из «Волков…»
- Сейчас я уже его понимаю. А тогда, до «Поздней любви» всегда знала, что он не мой автор. Точно так же, как мне сказали когда-то: «Алена, вам так идет Ахматова, читайте ее», а я сопротивлялась: «Нет, только Цветаева». У меня свои отношения с авторами всегда были. В какой-то период я отторгаю кого-то, пусть это и великий автор, не хочет организм с ним сталкиваться. Проходит время, раз, и думаю: «А чего это я так вдруг?». Причем, не хочу чего-то до ненависти, а потом раз… и любовь до гроба.
- И снова о Гришковце. Тогда в Кемерово ты чувствовала, угадывала в нем писателя?
- Конечно, нет. Я и понятия не имела, что он кем-то собирается быть, каким-то писателем.
- Когда узнала о его успехе, что чувствовала?
- Это была реакция на уровне «О!?», в Москве появился Гришковец, которого я знаю сто лет. Что это он делает?» Такое детское любопытство было. А потом я посмотрела «Как я съел собаку» и была поражена совершенно новым языком, таким откровенным, чистым, таким искренним. Я прямо очень гордилась, что моя Сибирь на коне.
- Потом ты читала каждое его произведение?
- Нет, что-то пропускала. «Театр отчаяния» - очень большой роман, поэтому пока не дочитала. «Реки» мне безумно понравилась, «Записки русского путешественника» - тоже. Я многое смотрела.
- А сейчас, когда вы ставили спектакль, встречались с ним?
- Он приходил на премьеру, был очень удивлен. Ему понравилось. Он такого не ожидал (смеется).
Интервью: Марина Зельцер