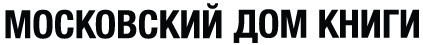- В новом романе вы продолжаете тему сиротства и обращаетесь теперь к 20-м годам прошлого века. Почему эта тема и то время так вам близки и дороги?
- Первые десятилетия советской власти – это время, которое определяет нас сегодняшних. Именно тогда были заложены основы государства, в котором мы живем и сейчас – не формально, а по сути. Тот пресловутый «советский человек», которого лепили из «человеческого материала» большевики, жив и по сю пору – в нас. Говорю это без негативного оттенка – имея в виду наследование как коллективных травм, нанесенных нашему обществу в ранние советские годы, так и некоторых прогрессивных вещей. Советское – это часть нашего анамнеза, отрицать это нельзя. И для меня написание книг о ранней советской эпохе – не эскейпизм, а в чем-то попытка разобраться в сегодняшнем дне.
Тема сиротства, конечно, присутствует в романе, но не она – главная. Да, идущий из Казани в Самарканд эшелон везет пять сотен сирот-беспризорников, чтобы спасти от голодной смерти. Да, главный герой романа – начальник эшелона Деев – также вырос без семьи, а в эшелоне внезапно обретает эту семью. Но все же книга – не про детско-родительские отношения. Незримый главный герой в романе «Эшелон на Самарканд» - голод в Поволжье. Именно он определил судьбы всех персонажей – в книге я хотела описать коллективный опыт, случившийся в голодные годы в стране.
Если же говорить в целом об отношениях детей и отцов в раннее советское время, то 1917 год, конечно, можно назвать водоразделом – революция разделила поколения, возвела стену непонимания, вражды, забвения. Поэтому тема сиротства – не столько даже фактического, когда родители погибали, а скорее духовного сиротства, когда отцы и дети оказывали по разную сторону идеологической баррикады – эта тема, на мой взгляд, относится к лейтмотивам той эпохи.
- Продолжаете вы и свои языковые поиски, и находки (детские прозвища). Вы искали значения слов специально для этого романа или языковая лаборатория у вас работает постоянно?
- Язык романа собирался из разных источников. Погружаясь в тему, я много времени провела за чтением архивных документов, газет, писем той поры – и окунулась в лексикон 1920-х годов. И такие слова, как «голдети», «эвакопункт», «помгол» или «заготкампания» естественным образом влились в текст повествования. А также – словечки и фразы беспризорных детей. «Я тебя научу насчет картошки дров поджарить!» или «Ты еще не дорос до моих зубов!», или «Больно важно вы едите, ну прямо как Ленин», или «Мы - пальцы мазаные, сплетуем – блоха не учует» - все эти фразы невозможно придумать, они взяты из первоисточников. Иногда я целые сцены выстраивала для использования этих фраз – чтобы в тексте чувствовалась правда, в том числе и переданная через язык. «Горлохват», «клюквенник», «штымп», «ишачка» и еще сотня соленых словечек — это все из арго беспризорников.
Отдельно создала словарик из волжских, свияжских, казанских говоров и бурлацкого лексикона – прошерстила тома Словаря русских народных говоров и выписала те словечки и выражения, которые показались интересными, «вкусными». Что-то использовала. «Бус», «алдашить», «бутыскнуть», «валявка», «вар-пыш», «сухоляда», «квакала» и многое другое – оттуда.
То есть «языковая лаборатория» работает не постоянно, а под определенную задачу – создавая лексикон конкретного романа. Под конкретный же роман создается и структура повествования, и сеть персонажей, и вообще все художественные «ключи».
- Вы пользовались при написании романа воспоминаниями тех, кто занимался с беспризорниками, архивными материалами и газетными подшивками. Когда вы поняли, что будете писать на эту тему? Есть ли у вас личные пересечения с ней, пострадала ли ваша семья, ваши предки от голода?
- В 1921-1922 году тема голода не сходила с газетных полос (правда, и газет тех было – чуть) – это была самая насущная тема, наравне с гражданской войной, она освещалась очень подробно. Письма и литературные тексты голодающих, рецепты суррогатного хлеба, даже статья с говорящим названием «Какое лакомое блюдо – суслики!». В голодающих районах издавались так называемые «Книги голода» - сборники литературных текстов и фактов о голоде (я читала самарское издание, от него пробирает дрожь). В Самаре и Саратове открыли музеи голода. Врачи публиковали монографии о голоде и его влиянии на человеческие организмы.
Но уже в конце 1922 года государственная пропаганда заявила через газеты о победе над катастрофой. Это не соответствовало правде – профессиональные историки говорят о фактах массового голодания еще в 1923 году – но постепенно тема действительно ушла из повестки. А затем и стала замалчиваться. В историографии голод стали скромно называть «недородом». В искусстве и литературе об этой теме рассказывалось не много.
В хрущевскую оттепель была предпринята единственная (известная мне) попытка честно рассказать о катастрофе 1920-х – Шухрат Аббасов создал двухсерийный художественный фильм «Ташкент – город хлебный», где использовал много хроники, снятой Дзигой Вертовым и Эдуардом Тиссэ в голодающем Поволжье. Кстати, сценаристами выступили юные Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский. Но картину сильно порезала цензура – вся хроника была удалена, а сам фильм сокращен до одной серии. Только в 2010-е годы на студии «Узбекфильм» воссоздали первоначальную версию картины. Таким образом, об этой теме было мало сказано. И очень мало сказано правды.
Изначально я не планировала создавать роман о голоде в Поволжье – слишком серьезный замах, слишком большая ответственность. Была задумка написать камерную повесть о мальчиках-беспризорниках, которых собирают в коммуне для дефективных детей, и я почти год пыталась составить этот довольно искусственный сюжет. Однако тема голода победила – я отставила все придуманные конструкции и сделала главным героем взрослого человека. А роман поместила в жанр путешествия.
О «поездах Дзержинского» знаю не понаслышке – один из моих дедов был беспризорником, и в начале 1920-х его на таком вот поезде вывезли из голодной Казани в Туркестан и спасли. Увы, ничего, кроме этого факта, о беспризорной жизни дедушки не знала. Поэтому весь материал для книги начитывала и насматривала (в хронике).
- После успеха «Зулейхи» и фильма по этому роману вы написали «Дети мои», второй роман тоже был хорошо принят. Какую принципиально иную задачу вы для себя ставили в третьем романе?
- Конечно, второй роман – очень серьезное испытание для автора. Признаюсь, писать книгу «Дети мои» было непросто, мешали разные страхи. При создании «Эшелона» основной трудностью были не тревоги и комплексы, а сама тема – совершенно трагическая. Важно было не провалиться в это трагическое – не превратить книгу в реалистичное описание ужаса. А такие соблазны возникали после погружения в материал.
Поставила себе творческую задачу – найти противовесы тяжелой теме. Придумала любовную линию (начальник эшелона Деев, молодой фронтовик с трудным прошлым, влюбляется в детского комиссара Белую). Задала основной жанр повествования – приключения, экшн. Описала как можно более ярко мир беспризорных детей – пассажиров эшелона. Использовала кинематографический инструментарий – постаралась показать историю читателю как увлекательное кино. Сделала диалоги короткими и конфликтными, все внутренние движения души героев постаралась вынести вовне – в действия. Надеюсь, эти приемы работают: что роман все же читается легко, несмотря на серьезную тему, что сюжет тянет за собой, увлекает, что читательские эмоции развиваются по синусоиде – от теплого и радостного к грустному и страшному, затем обратно.
- Капитолийская волчица и другие мифологические и архетипические образы нужны вам для того, чтобы приподнять эту историю до общечеловеческого значения?
- В романе действительно много мифологического. Начиная с сюжета, который выстроен как героический миф: начальник эшелона Деев на пути длиной в 4 000 миль и 6 недель встречает много препятствий и совершает много мелких подвигов. Такая структура отсылает не то к античному мифу, не то к сказке – и вселяет надежду, что странствие закончится хорошо, то есть помогает читателю справиться с непростой темой. В книге много второстепенных героев, которых называют не именами, а кличками, похожими на сказочные: Огненные Усы, Баранья Башка, Железная Рука… Эти герои одновременно – и реалистично выписаны, и имеют мифологическое измерение. Хотелось создать историю, которая работает одновременно и как исторически безупречный роман, читая который можно знакомиться с темой голода 1920-х, и как вневременная история о человечности – это главная тема книги. Человечность – как непременное условие выживания любого общества. Дети эшелона достигают Самарканда только благодаря тому, что все встречные взрослые проявляют милосердие – оно обнуляет на время социальную вражду и объединяет очень разных людей единой целью спасти детские жизни.
Интервью: Маргарита Кобеляцкая