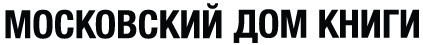- Игорь, история с книгой действительно началась с того, что тебе на глаза попались твои старые дневники и записи?
- Нет, в течение нескольких лет ко мне обращались разные издательства, но мне казалось, что я еще не в том состоянии, когда пишут мемуары, что вспоминая, ты отчасти живешь с ощущением, что все в прошлом. А я и сейчас думаю, что все в моей жизни только набирает обороты. Но энное время назад одна журналистка предложила мне написать эссе для ее книги - сравнить себя с каким-то героем из детства. Мне показалось это интересным, я вспомнил своего любимого персонажа и любимую книжку «Капитан Сорви голова», с которой я в детстве засыпал и просыпался, заканчивал ее читать и тут же начинал заново. Я почувствовал удовольствие от процесса, в этом был некий разговор с собой уже с учетом моего опыта. В это время мне опять предложили в АСТ сделать книгу, и я подумал, что, наверное, наступил хороший момент. Сначала я решил собрать то, что было написано в разные годы в каких-то тетрадках, блокнотах, на обрывках газет, театральных программок, на всем, что попадалось мне под руку, даже на пакетах, которые выдаются в самолетах на случай, если станет нехорошо. Это были и стихи, и хулиганские поэмы, и дневники, которые я вел в разные годы. Причем записи не были привязаны к каким-то важным событиям, но в них есть течение самой жизни. И это не размышления, кроме юношеских дневников, которые полны всякой рефлексии, я себя всегда бил по рукам за такое, а просто констатация фактов, как правило, с ироничным отношением к ним. Плюс я еще в пробках наговаривал на диктофон. Но, собрав все, я понял, что есть огромные дыры в этих воспоминаниях.
- И что ты делал, сам вспоминал, расспрашивал папу, Вадика?
- Нет, у Борхеса есть рассказ, в котором говорится, что можно выстроить цепочку и воссоздать весь мир, вспомнив, например, предмет, который лежал у тебя в детской на столе. Зацепиться за крошечную точилку для карандашей и вспомнить стол, и его полировку и пятно на нем, потому что ты разлил чернила в тот момент, когда страдал или поссорился с родителями. И цвет обоев, и пейзаж за окном, на который ты сотни раз смотрел, а потом уже перестал его замечать. А если открутить все это назад, то и как зашла в комнату мама, и как она была одета, и какой аромат духов у нее был, и мамины руки, и ее лак для ногтей... Можно пройти за ней на кухню и увидеть и скатерть на столе и папу, листающего журнал «Новый мир», и поднос с собакой неизвестной породы на стене, который он привез из поездки в Венгрию. И вспомнить, как ты провожал папу в эту поездку. Я понял, что хочу все это запечатлеть. И у меня появились рассказы о моем детстве, юности, родительском доме и какой-то ерунде, которой не придаешь значения в моменте, но через много лет это вдруг становится чем-то очень важным для тебя. В этих рассказах я - не я, и мой брат - не он, как и мои родители. Я написал истории, которые рассказывали родители, но сам их инсценировал, наполнил придуманными деталями. И тут я приехал в бывшую квартиру родителей, туда, где прошло мое детство, вышел на балкон, там стоял шкаф-каланча. Я открыл его и сверху на меня упал картонный ящик, полный моих юношеских дневников. И это стало для меня финальным знаком.
- Ты сыграл Тригорина и сразу сам стал писателем…
- Наверное, не совсем так. То, что я чиркаю на бумаге, наверное, меня продвигало к этой роли, хотя, действительно, совпало - сыграл писателя, и вот у меня вышла первая книжка.
- «Первая книжка». Значит, есть мысли, что она будет не единственной?
- Не знаю. Фиксировать время или какие-то значимые события мне иногда хочется, но заставить себя делать это постоянно я не могу. Поэтому книга и называется «Брошенные тексты». Кстати, так было и с записью диска. Началось все с того, что я приехал на съемки на Грушинский фестиваль и подумал: «Ну, коли я здесь, выступлю-ка», а я уже давно писал песни. Предложил, мне разрешили, и я выступил на маленькой эстраде, потом на другом пространстве, затем на третьем и так дошел до главной сцены и стал лауреатом фестиваля. После этого мне предложили издать пластинку на студии грамзаписи «Мелодия». Сначала речь шла о маленьком гибком диске из четырех песен. Я спел несколько, и речь зашла о полноценной пластинке. Я был счастлив. И помню, как на «Тартюфе», поставленном Эфросом, где я играл Дамиса, а Настя Вертинская - Эльмиру, буквально перед третьим звонком, я подошел к ней с просьбой написать свои впечатления от песен. Это печаталось на оборотной стороне альбома. «Давай, послушаю», - сказала она. Через две недели она дала мне текст, написанный от руки. У меня до сих пор хранится этот листок, текст был потрясающий. Я начал записывать пластинку и опять замотался. Потом решил, что надо все по-другому делать. Короче, ушла в песок затея. А мама все время говорила: «Надо, чтобы это вышло», ей нравились мои песни, особенно про пароход, про Париж. Первыми, кому я исполнял их, были родители, проходили такие домашние художественные советы. И только через какое-то количество лет этот альбом, я его назвал «На бегу», наконец, случился. В общем, многое я бросал, не доводил до конца, поэтому чтобы случилась следующая книга…
- Когда ты взялся за дело, по-прежнему все делал сам: писал, структурировал, никому ничего не надиктовывал?
- Книга, а в ней четыреста страниц с тремя вкладками с фотографиями, сделана мной от и до. Но, конечно, издательство дало мне редактора. Мы с Александрой периодически встречались, и иногда я прямо при ней что-то переделывал, переписывал стихи, а она терпеливо сидела рядом. Но мой способ работы с бесконечными отменами: «Эта страница не нужна, а вот эту поставьте», с ночными вспышками, она не выдержала. К тому же она говорила: «Игорь, уже срок, к 15 числу, дальше мы не можем переносить», я отвечал: «Конечно, но к 15 мы не можем, значит, отменяем книгу, в таком виде я не отдам». Мы переносили срок за сроком, и когда она вынесла мне тысяча сто двадцать восьмое предупреждение о том, что или завтра, или никогда, и я сказал: «Значит, никогда!», она сломалась и отправилась лечить нервы и психику. Причем, если сначала Саша была очень вдохновенной, светящейся, то потом у нее стали случаться моменты апатии, а под конец она уже была депрессивной, с потухшим взором и при этом взнервленной. Но я ей очень благодарен за мужество, потому что она была со мной долгий период, когда я собирал и формировал материал. Потом издательство выделило мне второго редактора, Катю, на вид более крепкого психически. И если у Саши это была первая книга, то Катя - опытный редактор, тоже отличалась оптимизмом и звонким смехом, и в ней была здоровая уверенность, что мы все быстро сделаем: уж скольких она видела, сколько прошло через ее руки. Но через несколько месяцев вся ее стройная система внесения правок в текст рухнула. Она пыталась понять мой варварский метод «здесь зачеркнуто, на оборот страницы перенесено, это слово вниз…». И она тоже говорила: «Игорь, нельзя все время править». В общем, спустя полгода работы со мной она уже редко смеялась, перестала отвечать на ночные звонки и даже выходить на связь. И тоже начала часто болеть. Тогда издательство сделало шаг ладьей, и мне дали редактором руководителя отдела Татьяну. И если Катя и Саша от восторга, обожания и предвкушения перешли к раздражению, агрессии и угрозам, что это не выйдет, что так нельзя, то опытная Татьяна избрала другую тактику. «Это замечательно. Принимаем правки. Вам в таком виде удобно?». Она очень мягко говорила о сроке, мол, если не успеем, можем перенести, а я ей отвечал: «Нет, нет, ни в коем случае не надо переносить». И это сработало. Так что писал ли я один? Конечно, да, но рядом были эти три женщины, которые являлись моим триггером, моим заводным механизмом. Я думаю, если бы появился редактор-мужчина, то книги бы не было. А эта женская энергия меня заряжала.
- Первоначальной мысли, что будет помогать Вадик, не было? Или вспоминая историю твоего давнего интервью, данного брату в газету «Неделя», это и сейчас не рассматривалось?
- Да, у Вадика осталось очень острое воспоминание о том, как однажды он решил взять у меня интервью. Точнее, ему предложили сделать интервью с братом, и он очень радостный воодушевленно сообщил мне об этом. И я воспринял это тоже с радостью и воодушевлением. Примерно через пару недель, а я все время откладывал, когда же мы, наконец, начнем, он, неожиданно раздраженно для меня, сказал: «Игорь, у меня есть сроки, я не могу ждать бесконечно, так назови уже когда». А я говорил: «Завтра, послезавтра…». И как-то в воскресное утро он меня выловил и резко спросил: «Так мы будем разговаривать?», на что я ответил: «Хорошо, давай прямо сейчас». Но к этому моменту наши отношения уже были такими, какими не были никогда. Мы, конечно, ссорились и раньше, но быстро отходили, а тут тяжелая атмосфера повисла в нашем доме. Мы тогда еще жили все вместе у родителей. Он взял диктофон, который я же ему привез из Японии, куда ездил на гастроли с МХТ, включил его, стал задавать вопросы и примерно на третьем или четвертом предметы начали двигаться, а под конец, как говорит Вадик, то ли он, то ли я схватил стул и двинул им об стол (улыбается). Чтобы не бросить им в голову другого. Мы в окружении прекрасного родительского гарнитура, то ли венгерского, то ли чешского, а я помню эти стулья, обитые красной тканью, напоминали Остапа Бендера и Кису Воробьянинова, которые стремились отыскать фамильные драгоценности. И каждый поклялся никогда больше не иметь дела с другим на журналистском поле. Прошли годы, и нам с Вадиком предложили на радио «Культура» делать программу «Театральная среда братьев Верников», что и ему, и мне показалось интересным. Мы согласились, нарушив клятву.
- Но там вы уже были равные партнеры…
- Тоже не сразу все спокойно было. Когда после первых эфиров каждый садился в свою машину, начинались звонки с разбором полетов: «Почему? А ты, а я…». И это при том, что мы с Вадиком два полностью сообщающихся сосуда, два совершенно близких человека, два друга, и так, как он знает меня, никто не знает нас. А еще через время от канала «Россия. Культура» поступило предложение вести программу «2Верник2». И это уже несколько лет совершенное счастье. Беседы с коллегами стали продолжением и разрешением того нашего первого интервью и диалогом друг с другом. Но и здесь во время первых съемок, бывало, всякое, и сейчас иногда случается. Эти программы спасает от полета стульев и другой мебели то, что рядом с нами всегда есть третий.
- Благодаря театру у тебя были прекрасные встречи с большими авторами…
- Я считаю, что мои серьезные встречи с великими авторами начались с «Дракона» Шварца в постановке Богомолова, где я сыграл Дракона в партнерстве с Олегом Палычем Табаковым. Потом была «Чайка», Тригорин, и это счастье играть такую роль и произносить чеховский текст. Я не был занят в спектакле «Белая гвардия», поставленном Женовачом по моему любимому роману обожаемого мной Михаила Афанасьевича Булгакова, а вот уже в «Беге» Сергей Васильевич предложил мне роль Корзухина, которого играл Евстигнеев в картине. Я сознательно не стал пересматривать фильм перед репетициями, потому что это, безусловно, было бы определенным давлением. На премьере ко мне подошел Станислав Андреевич Любшин и сказал: «Я тебя поздравляю, потому что твой Корзухин - большая актерская победа» и добавил, что после Евгения Александровича играть эту роль непросто. Для меня его слова очень важны. Сейчас я репетирую в МХТ главную роль в «Вальпургиевой ночи» Венечки Ерофеева и у Богомолова на Бронной Костика в «Покровских воротах». Весь авторский текст Зорина сохранен, но что-то Богомоловым придумано и дописано. А так как я знал Михал Михалыча Козакова, помню период его работы над этим фильмом, поскольку дружу с Кириллом Козаковым, то у меня есть и очень личная ностальгическая интонация.
- Как происходило ваше с Вадиком общение с книгами в школьные годы? Каким было влияние папы, мамы на это и видел ли ты, что читали они?
- У нас дома было несколько полок с книгами, которые родители собрали за свою жизнь, библиотекой это даже не назовешь. Не было и пространства для нее и возможности покупать книги. Сейчас говорю об этом и мысленно иду по книжным полкам, вижу синее собрание сочинений Гоголя, которое я прочитал том за томом, а потом четырнадцатитомник Толстого, восьмитомник Достоевского, бордовое издание Ромена Ролана в пяти томах, трехтомник Есенина, четырехтомник Маяковского… Помню очень большую книгу «Тихий Дон», особенное издание. Я выдирал страницы, которые были скреплены по четырнадцать-шестнадцать штук в тетрадь, что было, конечно, вандализмом, для того чтобы читать в метро по дороге в институт и обратно, возить ее целиком было невозможно. Потом я вставлял листы обратно, мне удавалось восстановить почти первоначальный вид книги. Но думаю, если бы родители это увидели, никакой любовью к литературе я бы не оправдался. Я читал очень много стихов, прежде всего, Пушкина и Лермонтова. А еще все то, что обменивалось на макулатуру. Мама очень гордилась, когда удавалось собрать по двадцать килограмм и получить талон на «Три мушкетера», «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя» Дюма, на книги Жорж Санд… И они очень выделялись новыми корешками на полках среди затертых, зачитанных книг. Помню, как мама собирала толстые журналы, сначала «Юность», потом «Новый мир», «Дружбу народов», «Неву». Они лежали стопками в комнате. А тетя Белла, папина родная сестра, всегда была с книгой в руках или книга лежала рядом, она читала на шести языках и на полях часто делала пометки. Она дарила нам с братом маленькие альбомчики с живописью и наборы открыток с картинами Тулуз-Лотрека, Моне, Ван Гога и всегда на обратной стороне писала какую-то информацию об этой картине, художнике. Почему-то я обожал листать альбом Рубенса. Я очень люблю живопись, но с рисованием не просто на Вы, а стою на очень почтительном расстоянии. Но тут со мной что-то случилось, я брал карандаш и тщательно перерисовывал в подаренный мне альбом для рисования пышнотелых, вальяжных, бесстыдных Рубенсовских красавиц. Они волновали мой юношеский мозг до такой степени, что мне хотелось самому прикоснуться к ним. Больше я никогда ничего не перерисовывал, это было какое-то помутнение рассудка.
- Помнишь ли себя в книжных магазинах лет тридцать назад?
- Я нашел свои письма, отправленные писал с гастролей и с отдыха. Их собирала мама и тетя Белла. Я служил в театре Советской Армии, но еще до этого проходил там стажировку и ездил на свои первые гастроли в Челябинск и Магнитогорск. И вот в одном письме оттуда было написано, что я купил Пастернака, в другом - еще какую-то книгу, в каждом - об этом. Тогда достать книгу было невозможным событием, а в Челябинске, это был 1988 год, я смог приобрести редкие издания и писал: «Рубль пятьдесят копеек потратил на книгу. Да, дорого, но что делать, зато был такой довольный и счастливый. Привезу, будете читать». Помню, как уже позже, в 90-е я снимался в Гаграх в картине «Время жестоких». Город был совершенно разбитым после войны, опустевшие улицы, мы, съемочная группа, жили в Пицунде, и однажды я зашел в «Букинист» и увидел полное собрание советской энциклопедии, прямо новехонькое. Это был целый мир, и стоило все копейки. Я подумал: «Куплю», но дотащить их было невозможно, каждый большой синий том весил килограмма по три-четыре. И я договорился с нашими службами света и другими ребятами, чтобы они взяли книги как реквизит. Все запаковали в коробки, и так энциклопедия приехала ко мне домой. А сейчас, когда я захожу в книжный магазин и вижу это пиршество на все вкусы, то, конечно, уже не испытываю того волнения и той ценности приобретения книги, тогда в ней была какая-то тактильная радость. В свое время я собирал марки, и тоже помню, как каждая серия или марка вызывала восторг. И книга была пополнением твоей коллекции. А когда в магазинах появились книги по искусству, я сделал то, что не могла себе позволить и о чем мечтала моя тетя, которая так любила живопись, что стояла день и ночь, чтобы пройти тридцать секунд мимо привезенной «Джоконды». Я покупал эти большие, тяжелые альбомы, и это был мой внутренний диалог с Беллой, продолжение ее желания наполнить свою и нашу с Вадиком жизнь красотой.
- А как ты сейчас ведешь себя в книжном магазине?
- Сейчас я захожу туда, хоть это и нехорошее сравнение, скорее, как на рынок. Вроде бы ты и не голоден, но раз уж пришел, надо все попробовать, а тут и аппетит появляется, но поскольку дома все есть, хочется купить что-то, что поразило глаз или то, что ты очень любишь. Какое-то время назад я приобрел большой альбом «Майя» о Плисецкой. Там много написано о ней, прекрасные иллюстрации, и это все во мне так отозвалось: вспомнились походы в Большой театр: «Лебединое озеро» и ее бесконечные руки или «Кармен» и цветы, летящие сверху, со всех ярусов, такого я больше нигде не видел. Сейчас, когда я уже сам играю в Большом театре в балете «Нуреев», букеты выносят билетеры, а тогда это был нескончаемый цветопад. Я вспомнил, как Вадик снимал Майю Михайловну для своей программы, летал к ней в какой-то финский городок, где она то ли выступала, то ли работала как репетитор. Они гуляли по малюсеньким улочкам и беседовали. Она уже шла как женщина, много пожившая и пережившая, и он думал, что будет, когда включат камеру и не нужен ли ей хороший грим. Но она входила в кадр и преображалась изнутри, от нее нельзя было отвести глаз. Это был не просто талант, ее внутренняя музыка.
А несколько лет назад во время ежегодной книжной ярмарки на Красной площади, где актеры МХТ всегда читают стихи разных поэтов, у нас была дневная репетиция, вечером - выступление, и в перерыве я пошел походить по рядам. Вижу, толпится народ, я заглянул через них, смотрю, сидит Евгений Евтушенко и подписывает книги. И я встал в эту очередь, чтобы хоть заглянуть в глаза поэту, которого я очень люблю и чьи стихи я читал при поступлении в институт. Я попросил его подписать мне книгу. Это очень дорого для меня. Вообще у нас дома много книг, подаренных и подписанных моему папе. И от писателей: Проскурина, Ромена Ролана, многих, по чьим произведениям он делал постановки, и от великих актеров, режиссеров, с которыми он работал: Смоктуновского, Табакова, Ефремова, Завадского, Марецкой, Плятта, Яковлева… Олегом Палычем написано: «Моему дружочку, кормильцу Эмилю», потому что папа его с молодых лет много занимал в своих радиопостановках. И Олег Палыч считал, что благодаря ему в те времена он мог содержать семью. А папа написал книгу «Мой радиотеатр», где рассказывает о разном, но главным образом о профессии. Так что теперь у нас в доме есть мини-библиотечка, такая полочка тщеславия, состоящая из папиной книги, моей, двух Вадика и еще одной, что он написал вместе с Церковером, когда еще работал в «Неделе», семья ходуном ходила, что у маленького Вадика случилась большая книга. Но наша библиотека - это и путешествие по жизни, по ее лабиринтам. И она отзывается во мне не только книгочеевским началом, а чем-то большим. Как те тридцать томов, привезенные из Гагры, все это живая история.
Интервью: Марина Зельцер