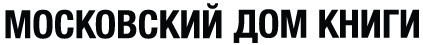- Женя, знаю, что уже в детстве вы были, что называется, своим человеком в библиотеке, вам давали без очереди (тогда существовала система записи и ожидания) редкие и ценные книги. Что это были за произведения?
- Самой большой редкостью являлась фантастика, потому что ее было очень мало в те годы, в детской литературе существовала серия книг этого жанра. И среди них затесался приключенческий роман Сабатини «Одиссея Капитана Блада». Помню, что он меня так потряс, что я долго рисовал иллюстрации к нему. Мне кажется, что мальчишке в возрасте одиннадцати-двенадцати лет, в крайнем случае, тринадцати нужно обязательно прочитать эту книгу. Помимо невероятных приключений она еще литературно хитро построена, потому что сначала идет часть «Одиссея Капитана Блада», а потом «Хроника Капитана Блада», а это практически одно и то же, просто описанное с другого ракурса. Ты закончил читать любимую книгу, и у тебя горе, потому что со всем этим расстаешься, а тут начинаешь ее читать снова, но с другого конца. Это потрясающе, я не знаю аналогов такому. А «Остров сокровищ» … Величайший маленький роман написан настолько изумительно, что думаю, все, кто его читал и кому свойственно фантазийное восприятие мира, обращаются к нему не один раз. «Остров сокровищ» тоже должен быть одной из главных книг детства и уж точно входить в обязательный набор литературы для мальчика.
- А позже, когда появилось множество литературы фэнтези и фильмов такой тематики, вас что-то так же сильно увлекало, или все это осталось в детстве?
- Первая книга Толкиена «Властелин колец», которая была издана еще до перестройки, но попала к нам в 90-е годы. Я думаю, что это был мой самый последний литературный восторг. Помню, как я приехал в Москву году, наверное, в 1992, с этой книгой, и мне негде было ее читать. Я жил у родственников и друзей, и мне нужно было в течение дня где-то мотаться и приходить только вечером, потом тихонечко посидеть, пока все не угомонятся, не привлекая к себе внимание, а затем уже улечься на диван. Поэтому я спускался с книжкой в метро и ездил с ней по кольцевой линии, не мог оторваться. Я читал медленно, и как человек, который пьет вкусное пиво, смотрит, сколько еще осталось, так и я заглядывал постоянно, сколько еще осталось страниц, чтобы наслаждаться. И когда книга закончилась, а второго тома еще не было, и я не знал, будет ли он, пару недель чувствовал себя осиротевшим человеком.
- Чудесное ощущение. Только как же это осталось самым сильным и ярким впечатлением, ведь прошло столько лет?
- Это были еще остатки моей юности, я почти по-детски читал, когда ты живешь этим, когда чтение заполняет тебя целиком. А потом чтение перестает быть всепоглощающим процессом. В силу возраста, жизненного опыта, разных обстоятельств. Вот Толкиен был для меня таким последним мощнейшим погружением в чтение, не в литературу.
- То есть вы считаете, что такого у человека лет пятидесяти априори не может быть?
- Наверное, нет. Хотя бы потому, что ты не имеешь возможности погрузиться в чтение так надолго. Когда тебе двадцать или двадцать пять лет, ты еще не женат, у тебя нет детей, и у тебя молодые родители, которые не болеют, и нет ответственной работы, и ты не интересуешься политическими событиями в стране и в мире, не боишься войны, безденежья, тебя просто ничего не отвлекает. А когда болеет мама или дочь, не может быть никакого чтения.
- А уроки литературы в школе были для вас радостными или приятными хотя бы?
- Нет, потому что там нужно было разбирать произведения и приходить к тому знаменателю, к которому подводил тебя учитель. Учительница у нас была страстно любящая литературу, но я уже в седьмом классе понимал, что я умнее ее. Я не считал ее глупой, но просто не хотел сводить прочтение к выводам, которые озвучивались в учебнике или ею. Я не могу относиться к художественной книге как к источнику знаний, потому что никаких знаний это не несет. И не могу относиться к литературе, как к тому, что можно задавать на дом. Почему мы должны были в седьмом классе читать «Горе от ума», когда могли читать, например, Катаева или Каверина, более близких нам тогда и по возрасту героев и по проблемам, волнующим нас. И тогда у нас могла сложиться беседа, разговор с учителем, мы могли бы все вместе наслаждаться литературой.
- Наверное, считали, что если в школе не прочтут знаковые вещи из русской литературы, то не прочтут уже никогда…
- И до сих пор так считают. Когда мой рассказ «Зависть» и отрывок из повести «Реки» внесли в школьную программу, я был возмущен, говорил: «Пожалуйста, не делайте этого, вы меня лишаете читателей». Ну кто смог после школы снова приступить к чтению Паустовского или Бианки? Это же вызывало ненависть.
- Но Толстого-то многие перечитывали, например…
- Да, но в основном «Анну Каренину». А как без нее? И в школьной программе ее нет.
- Когда вы получали невероятное впечатление от книги, пытались понять, расшифровать, как это сделано?
- Я же филолог, как раз этим и занимался. А первый раз такое желание появилось у меня с «Неточкой Незвановой» Достоевского. Я пытался найти, где спрятано в тексте то, что произвело на меня грандиозное впечатление, а по сути, силился понять, как устроено чудо. Достоевский, Толстой, Чехов… Для меня то, что сделали эти люди, как будто существовало объективно - как горы, море. Ты живешь, а уже есть эти книги, они как часть мироздания, но никак не рукотворны, они слишком прекрасны.
- А что из Достоевского по силе впечатления или языку идет у вас после «Неточки Незвановой»?
-Я очень люблю «Записки из мертвого дома», это ранний Достоевский, он настолько прекрасен, еще не Достоевский, а существующий в большой русской традиции писатель, без своих странных оборотов в диалогах, это документальная, в общем-то, вещь. Я обожаю его роман «Подросток», это, на мой взгляд, тоже не совсем Достоевский. И я очень не люблю «Идиота», для меня там так много искусственного.
- А «Игрок» вам нравится?
- «Игрок» - прекрасная повесть, но это тоже книга не вполне Достоевского по языку. Я обожаю Куприна и думаю, что «Игрок» мог бы быть лучшим его произведением. (Смеется.)
- А Гоголь весь ваш?
- Кроме его писем и философских историй, весь. Он от корки до корки имеет одну пробу, чистого литературного золота.
- Еще немного по великим пройдемся. Что из Толстого у вас на первом месте?
- Конечно, «Анна Каренина». Но вообще, чем дальше, тем больше я двигаюсь от полной нелюбви к Толстому к сильной любви.
- В одном из интервью вы сказали, что называете своим любимым произведением Булгакова «Белую гвардию», а главным – «Мастера и Маргариту» …
- Конечно же, его величайшим произведением является «Мастер и Маргарита». Кто бы знал Булгакова без него? «Мастер» - это чудо. Непонятно, как это произведение появилось вообще, каким образом оно случилось, это осмыслить невозможно. Я прочел его в десятом классе, еще в перефотографированном виде с ощущением прикосновения к чему-то непостижимому. Но люблю я больше «Белую гвардию». Это прекрасная русская литература, прекрасный роман, который очень укладывается в контекст того времени.
- А у вас в детстве и юности не появлялось желания прочитать что-то о впечатлившем авторе, чьи-то воспоминания, те же письма, например?
- В школе нет. И я вообще убежден, что все мемуары, даже переписка больших философов - это все равно что ток-шоу по телевизору. От писателя и имени не нужно и неважно, как он выглядит, из какой страны и эпохи. От него достаточно только его книги.
- У вас с женой мнения о книгах, фильмах, спектаклях могут кардинально расходиться, так чтобы один считал произведение шедевром, а другой говорил, что оно ниже среднего?
- Нет, такого не бывает. Но у Лены есть сильно любимые книги, которые прошли мимо меня. Как правило, это связано с детским или юношеским прочтением. Я просто каких-то авторов и эти книжки не знал, но она мне открыла их с особенной стороны, как, например, Бунина «Жизнь Арсеньева» или Паустовского. И мы спокойно относимся к тому, что у каждого есть свои литературные территории. Но не могу сказать, что сейчас активно читаем, у нас слишком много дел, так что уже давно пересматриваем страницы любимых книг у себя в голове, не открывая. Мы оба филологи, и для нас чтение - совершенно особенное занятие. И к литературе у нас отношение совсем не такое, как у людей, которые просто берут книгу с полки в книжном магазине, мы видим текст иначе. И потому, наверное, уже потеряли вот такое наивное, чудесное отношение к книге.
- Вы стараетесь быть в курсе современных имен?
- Нет, мы давно не читаем современную литературу. Водолазкина я попробовал читать. Он владеет русским языком, но он им просто владеет. Наверное, есть люди в Москве и в Санкт-Петербурге, которые могут этим наслаждаться, но живущие в Челябинске, Новосибирске или Барнауле этим наслаждаться не могут.
- Но сегодня как-то неприлично сказать, что тебе не нравится Водолазкин…
- Когда я беру книгу и на четвертой странице уже все понимаю, то мне не нужно читать ее дальше. Литература должна быть литературой, она должна создавать впечатление. А тут я не могу получить его. Так что я лучше с творческой надеждой и интересом в очередной раз почитаю Акунина. Потому что он дает шанс испытать какое-то яркое ощущение, он умеет что-то такое придумать, что меня увлечет, и в этот момент мне будет весело, занятно, и я буду думать, чем же все закончится. Я понимаю, что Чхартишвили умнее меня, хитрее меня, хитроумнее даже. При этом я знаю, что романы Акунина - коммерческая беллетристика. Есть люди, которым нравится то, что делаю я, и есть те, кому нравится то, что делает Водолазкин. А можно вспомнить, что еще семь-восемь лет назад вся страна бегала и кричала, что главный писатель России - Захар Прилепин. И где теперь он, в каких анналах находится? Публика, которая говорила о нем как о серьезном писателе, восхваляет других, а его называет предателем, антисемитом, сталинистом. Вот так развешивают ярлыки. И от самого главного писателя до забвения три шага. Лучше заниматься только литературой, а не тем, что называется пошлым словом «тусовка», и вообще не обращать внимания на какие-то премии. Конечно, кто-то скажет: «А что это он такое говорит? (Смеется.) Ему никаких премий не светит и давно уже не светило». Ну да, когда меня спрашивают: «Ты писатель?», я отвечаю, что уже нет, потому что критики говорят, что я говно. А говорить, что я говно, я не хочу.
- Но как драматург и человек, сделавший что-то на театре, вы сразу были приняты и обласканы премиями, а шаг в сторону именно литературы вызвал такую реакцию…
- Нет, было не так. Когда я шагнул в профессиональный театр со спектаклем «Как я съел собаку», то получил премию «Золотая маска» и все прочее. Через четыре года написал роман «Рубашка», и он тоже сразу удостоился «Лучшего дебюта» и не только. А вот выход следующей книги и следующего спектакля всегда вызывали страшный гнев критики. Говорили: «Да какой же он писатель?!» или «Да какой же он артист?!». И первое мое появление на киноэкране было отмечено номинацией на «Нику», а потом опять ничего. С чем это связано, не знаю. Уже больше пятнадцати лет меня никуда не номинировали, даже никуда не приглашают, и я нахожусь исключительно со своими читателями и зрителями и уже даже не рассчитываю на другое. Правда, три года назад моя автобиографическая книга прошла в шорт-лист премии «Большая книга» среди восьми номинантов, но она и еще одна шла инкогнито, еще рукописью, а остальные шесть уже были изданы. Разумеется, она ничего не получила, но сколько было оправданий тому, что Гришковец оказался в списке соискателей: «Как это возможно, это же серьезная литературная премия». Я разговаривал с несколькими членами жюри, там их десятки, но понял, что они мой роман не читал. Для меня было удивительным, когда про книгу, выигравшую главный приз, председатель жюри сказал: «Ну, вот, наконец, появилась литература не для чтения». И я задумался, а что же это такое. Сейчас театр не для зрителей, кино не для показа, а литература, оказывается, не для чтения. Хотя вообще-то такое было всегда, и цену этому мы знаем, и, безусловно, в число подобной литературы тот же Сабатини никак не входит. (Смеется.)
- К кому из писателей вы испытываете больше сострадания, к кончине и к жизни?
- К Гумилеву Николаю Степановичу. Такой человек, с такой внешностью, с такими желаниями, с таким талантом, с таким невероятным благородством и... такая гибель. Первая жертва революции. Для меня он вообще был кумиром, я просто уже давно старше его.
- Если б вам можно было подружиться или быть в компании с кем-то из писателей любой эпохи, кого бы выбрали?
- Из писателей это вряд ли. Хотя, наверное, Аксенов офигенный собутыльник и друг. Мне посчастливилось быть с ним знакомым, но он уже был сильно пожилым тогда. Мне очень нравятся его ранние работы, а поздние не нравятся вовсе, но сам он абсолютно завораживающий человек. И голос его завораживал. Но думаю, что нужно выбирать какой-то период в жизни писателя, в который ты хотел бы сойтись с ним. И я точно хотел бы побыть хотя бы годик в друзьях и в компании у Хема (Хемингуэй) парижского периода.
- А с Чеховым, которого вы очень любите?
- Нет, дружить с Чеховым я совсем не хотел бы. Он совершенно гениален в драматургии, но, судя по всему, человек-то был не из тех, с кем легко и весело можно было подружиться другому писателю. Вот если бы я был врачом, окончил мединститут вместе с ним, возможно, мы бы стали приятелями на этой почве. Но Чехов – еще тот крендель. Вот что значит лишняя информация из писем и воспоминаний. (Смеется.) Ничего не нужно знать о Бунине помимо его книг. Кстати, познакомиться я больше всего хотел бы именно с ним. Но понимаю, что все наше знакомство свелось бы к одному, я бы все время говорил ему: «Вы гений, гений, гений», ничего другого и сказать бы не мог. На этом вся дружба и закончилась бы. (Смеется.) И, наверняка, есть вполне заурядные писатели, которых мы не знаем, но они отличные мужики, и с ними можно было бы классно сходить на рыбалку или сделать что-то в этом роде. Хотя вот с кем было бы точно весело, и он большой писатель, так это со Шпаликовым. С ним бы я очень хотел повыпивать. (Смеется.)
- Кстати, вы говорите, что ваша молодость совсем не отражена в кино…
- Да, потому что фильмы Рязанова – это скорее про наших родителей, в «Полетах во сне и наяву» герой старше, чем были мы в то время. Наша жизнь, кроме чудесных детских картин, таких как «Внимание, черепаха», никак не отражена в кино. Я обожал этот фильм в возрасте этих мальчишек. Я еще застал, успел поносить школьную форму мышиного цвета на трех пуговичках, потом появилась синяя. Наше детство художественно задокументировано кино и литературой, потому что «Денискины рассказы» - это, в том числе, и про меня. Там герой - советский мальчик, и неважно, это 50-е, 60-е или 70-е годы. А в 80-х в кино ничего о моих ровесниках и не было. В 90-е выходит фильм «Брат» Сергея Бодрова, и я в нем вижу кинодокумент эпохи, мы так одевались, мы это слушали, мы это ели, мы сидели в таких кафе, девчонки были такими, а братки такими, кинопленка была такого цвета, жизнь была такого же черно-бело-коричневого цвета, как в этом фильме. И опять тишина. А ты ищешь то, чему веришь, что было твоим, но ничего не находишь. Но через время раз - и появляется «Любовник» Валерия Тодоровского, и я понимаю, что это да, да, как и какая-то картина Хлебникова. Да и «Географ глобус пропил» Велединского тоже про меня и моих детей, но проблема в том, что все фильмы, которые я перечислил, в год своего выпуска были единственным кинособытием, а ни одна картина не может удовлетворить целого спектра запросов, да и не должна. Должен быть контекст, а его-то и нет.
- Да. И хочется произведений о нормальных людях, о нормальной жизни, а не о каких-то экстремальных ситуациях, событиях, войнах. Ведь многие книги и фильмы о войне, как «Двадцать дней без войны», например, совсем необязательно рассказывают о поле битвы, а действуют сильнейшим образом…
- В тех книгах о войне, которые я считаю великими, очень мало войны. То есть это сплошная война, но там идет налаженная жизнь, показан быт того времени. Весь Бондарев такой. Это бесконечные портреты людей, которыми не перестаешь восхищаться. Конечно, они все солдаты в тот момент, но тебе рассказывают, что они были таксистами, учителями до войны. Эти мужики все время что-то говорят, и когда я читаю произведения Бондарева, то ужасно хочу оказаться среди них, потому что они просто офигенные. А Владимир Богомолов, который написал два гениальнейших произведения о войне: повесть «Иван» и супердетектив «В августе 44-го», никакие Шерлоки Холмсы и рядом не стояли. И мне тоже так хочется быть вместе с этим мужиками в том времени, голодном, страшном, опасном, потому что там такая острота жизни… Быкова я очень сильно люблю, но у него настолько горькая правда войны, что ты начинаешь умирать вместе с героем с первой страницы, идешь вместе с ним к смерти. Это литературная, художественная правда, но лучше я буду читать Бондарева.
- Знаю, что вы не любите Солженицына и очень жестко высказываетесь о его писаниях в отличие от произведений Шаламова, тоже очень тяжелых. Согласна с вами, хотя многие считают, что та правда Солженицына была просто необходима и тогда, и позже…
- У Шаламова это литература, а у Солженицына нет. Я его очень не люблю. Он не писатель. Это невозможно читать, да и не нужно. Ни «В круге первом», ни «Красное колесо». Искусство всегда гуманно, как у Шаламова, о чем бы тяжелом не говорилось. Например, я очень люблю спектакль Камы Гинкаса «К.И.» по «Преступлению и наказанию». Наверняка многие попадали в такую ситуацию: идешь по улице в своем настроении, и вдруг рядом с тобой пробегает рыдающая женщина или ребенок, и ты не знаешь, что у них случилось, и почему эта женщина так бежит, но это столкновение с горем или сильным страданием тебя возвращает во что-то. А спектакль «К.И.» - это два часа нечеловеческого горя, которое ты наблюдаешь рядом с собой. Но Гинкас всегда про любовь к человеку. Это такое сочувствие, когда ты все равно видишь человеческую душу. И это настолько прекрасно создано, что, выходя со спектакля, поскольку это искусство, а оно всегда гуманно, ты хочешь помогать всем, кому можешь, потому что ты видел человека, которому невозможно помочь. А вот у режиссера Богомолова на сцене всегда много красивых артистов, они хорошо выглядят, но при этом я вижу такое презрение к человеку как таковому, к жизни как таковой, что просто не могу это смотреть. Это то, что я ненавижу. Так нельзя относиться к искусству, потому что все, что не гуманно – не искусство. Ларс фон Триер – не искусство. Хотя тот же Богомолов может делать другие спектакли, как «Юбилей ювелира» или первый его спектакль «Старший сын». Он хитрый человек, он делает то, что делает, а потом поставит Вуди Аллена, мол, посмотрите, на самом деле я человек.
- Нигде не слышала имен писателей или названий ваших любимых произведений в ироническом, юмористическом жанре, не считая Чехова и Гоголя…
- Ильф и Петров, Зощенко, Аверченко – это все прекрасно. Но это тоже чудеса. Причем чудеса, связанные не с большим количеством литературы, а с такими вспышками. А есть в этом жанре писатель весь абсолютно чудесный - и в книгах, и в статьях. Это Марк Твен. Его «Том Сойер» и «Приключения Геккельбери Финна» как будто написаны разными людьми, и это абсолютно завораживающая литература. Конечно, я прочел его в детстве. Помню, что после «Тома Сойера» я в очередной раз осиротел, потому что не было уже этих людей, и я не понимал, как мне жить дальше. Следом я взялся за «Геккельбери Финна» и как я рыдал… Вообще браться за эту книгу надо существенно позже и получать удовольствие от другого, потому что, читая «Тома Сойера», ты вообще не думаешь ни о чем, просто живешь жизнью героев, а история Гека Финна – это уже литература, в которой ты наслаждаешься каждой буквой произведения. Если говорить о великой детской литературе, то, конечно же, Астрид Линдгрен – это так же круто, как Марк Твен, это какой-то замерший в воздухе фейерверк.
- Герои моих интервью часто употребляют одни и те же слова, которые их очень характеризуют. У вас тоже есть такое слово, слова - «чудо» и «чудесный». Значит, в вас и сейчас живет восторг.
- Да, я часто употребляю эти слова. (Улыбается.) И восторг случается, но редко. Мы, к сожалению, живем в то время, когда очень мало больших произведений, больших людей.
- Я с интересом слушала вас, что Пушкин – это чудо, но не поэзия, а Мандельштам, о котором вы тоже говорите с восторгом, как о чистейшем хрустале – поэзия. Почему?
- Так дело в том, что в отличие от Мандельштама, Пушкин Пушкина не читал и Лермонтова тоже. Вот и все (Улыбается.)
- То есть вы думаете, что не было бы Мандельштама, если бы не было Пушкина?
- Я знаю точно, что не было бы Бродского, если не было бы Мандельштама.
- А вы по-прежнему считаете, что самое великое – это самое простое? Потому что Пушкин – гениально просто, Мандельштам - довольно просто, Шукшин, которого вы очень любите - тоже. Правда, вы говорите, что любимый режиссер у вас Тарковский, который, кажется, не совсем прост...
- А для меня Тарковский – это очень просто, там нет никакого ребуса. Колоссальная, бездонная многослойность есть, как на картинах Брейгеля, но, тем не менее, что там разгадывать. Он про впечатления, про божественное. И Тарковский настолько был уверен, что то, что он делает и именно так, как он задумал, может понять любой человек, что его всегда огорчали вопросы: «Что значит у вас собака в фильме «Сталкер»?», и он отвечал: «Собака означает собаку». А нужно просто понять, что, если ты видишь собаку, значит, где-то рядом человек, дом. И если кто-то относится к фильму «Зеркало» как к какому-то шифру, то он его никогда не расшифрует, потому что там шифра нет. И не надо потом делать вывод, что Тарковский хотел двухчасовым фильмом сказать, что жизнь прекрасна. Чтобы это сказать, не надо снимать такой фильм.
- Прочитала в вашем романе, что в начале учебы на филфаке вы попали в компанию этаких продвинутых товарищей, где вам открывали новые книги, фильмы, имена… Кто-нибудь из тех писателей, о которых вы услышали от них: Беккет, Борхес, Сартр, Кастанеда, Гессе попал в вашу душу тогда или после?
- Нет.
- Удивительно, но мне несколько актеров недавно говорили, с каким восторгом и упоением они читали «Игру в бисер».
- Я очень мучился над Гессе, так это невыносимо тягостно. Я прочитал бы с большим удовольствием даже «Мать» Горького или Фадеева, чем это. В таких ситуациях я говорю людям, которые мне небезразличны: «Поймите, пожалуйста, вас обманули. Но вы обманываться рады».
- Вы говорите, что воспоминания писателя с читателями и зрителями будут общими, если не упоминать подробных деталей, а при этом, когда вас читаешь, кажется, что вы очень детальны. То есть, как я понимаю, про эскимо, которое было у всех поколений, вы не стали бы писать, как именно оно выглядело...
- Да, и не говорил бы о цене в двадцать две копейки. Потому что у другого поколения оно стоило по-другому. Но это уже литературная работа. В первых своих выступлениях со спектаклем «Как я съел собаку» я настаивал на этих подробностях, был этим очень увлечен. Я точно описывал мультфильмы, например, а со временем понял, что есть люди, в которых это очень попадает, а рядом с ними сидят те, в которых это совершенно не попадает. Зачем наслаждаться такими деталями? Для чего?
- А как вам кажется, в классике у великих есть детали, которых вы избегаете?
- Достоевский невероятно, просто потрясающе детален. И он это гениально делал. Ты все время ощущаешь в «Преступлении и наказании», что человек голоден, что он не умыт, что он не выспался. Такой массой деталей нагнетается все. И очень детален Тургенев, но его детали никому не нужны, потому что он плохой писатель. Его описания – это такое высокомерное желание показать, мол, посмотрите, какой я наблюдательный человек. Тургенев вообще случайно попал в классики. Хотя «Отцы и дети» - прекрасное произведение.
- Но и одно такое произведение уже немало…
- Но он же числится великим, а у него большая часть его собрания сочинений просто дурно написана.
- Когда у вас в голове рождается замысел чего-то или сюжет, как вы понимаете, будет это пьеса или повесть, роман?
- А это всегда возникает сразу. Формат, объем и даже жанр. Недавно я начал читать свои произведения, выступать, грубо говоря, как эстрадный писатель. Это то же самое, что делал Жванецкий на сцене. Мне Михал Михалыч все время говорил, что нужно читать с листа, это очень важно, люди должны видеть, что это текст канонический, он зафиксирован, ты не варьируешь его, не играешь в данный момент. Важно, чтобы на глазах у людей был писатель, а не актер. Я этого не понимал, а сейчас понял, что чтение с листа – это совершенно другой образ, чем если бы я воспроизводил собственный текст наизусть. И как только я занялся этой малой формой, не проходит дня, чтобы я не сочинил какое-нибудь маленькое, размером с пол странички произведение, потому что настроился на этот жанр. Например, на днях написал: «Что такое детство? Детство – это, прежде всего, прекрасное самочувствие и очень хорошо и весело, если бы не сон и еда».
- А как бы вы сейчас расставили свои ипостаси по порядку значимости для вас или по степени удовольствия от процесса?
- Когда я написал роман «Рубашка», то ушел из театра и почти семь лет не делал ни одного спектакля, а вот сейчас у меня такой период. Я понимаю, что не останусь на этой территории, но сейчас для меня это новая страница в жизни, и она меня страшно увлекает.
- Ваши недавние пьесы «Между делом» и «Собрание сочинений» более печальные, хотя и юмор в них, безусловно, есть.
- Все самые великие песни всегда печальные, грустные. И все великие пьесы, пожалуй, кроме «Тартюфа» и «Женитьбы Фигаро», довольно печальны. Но на спектаклях по обеим моим пьесам много смеются. Они просто грустные как жизнь. Взрослая жизнь всегда такая. Но ни та, ни другая пьеса не заканчивается трагически.
- Женя, а где у вас точка отсчета в писательстве — это «Записки русского путешественника»?
- Нет, роман «Рубашка». Это было первое литературное произведение, рассчитанное только на прочтение, без моей трактовки. Я никогда не считал пьесы произведениями для чтения, а когда написал что-то именно для этого, и это был роман «Рубашка», понял, что я писатель.
- Слышала много хороших отзывов о ваших двух свежих спектаклях. С критикой сложнее.
- Да, но эти прекрасные люди, которым понравилось, свои впечатления никуда не пишут. А статей практически не было. Критики меня ненавидят, терпеть не могут. Было написано, что это замечательный спектакль, первая работа Виктора Рыжакова на посту художественного руководителя театра «Современник», и что это первая большая роль Нееловой за долгое время, а вот зачем он взял эту пьесу Гришковца, непонятно, но, как известно, большой режиссер может поставить и телефонную книжку, что прекрасно и доказал Рыжаков.
- И как вы ощущаете себя после такого? Обросли броней или, как говорит Тригорин: «Когда хвалят, приятно, когда бранят, два дня ходишь не в духе»?
- Я больше живу по Тарковскому, у него говорит писатель: «Обругает одна сволочь – рана, похвалит другая сволочь – опять рана». (Смеется) Кстати, меня есть хитрый писательский прием. Люди хотят от меня получить книжку, а я знаю, что они точно не будут ее читать, им просто хочется получить ее с моим автографом, и я им дарю ее на каком-нибудь венгерском или китайском языке. Чтобы у меня наверняка не возникло вопросов: «Как вам моя книжка?» и чтобы человека не ставить в дурацкое положение.
- Вы говорите, что вам сложно менять род деятельности, от гастрольной жизни перейти к письменному столу.
- Да, это всегда тяжело. Нужно уйти туда, в литературную трубу, оторваться вообще от людей, от жизни. Быть там в этом литературном процессе.
- Вы до сих пор пишете ручкой. Почему?
- Просто я не владею клавиатурой. Диктовать нельзя, потому что тут же меняется все, пропадает
темп и сопротивление материала. Поэтому остается только ручка. (Улыбается.)
Интервью: Марина Зельцер