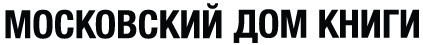- Вы один из создателей Российского национального оркестра. Но если Михаил Плетнёв на слуху, то вы как будто предпочитаете оставаться в тени. Природная скромность?
- Я никогда особенно не любил элементы признания, особенно незаслуженного. Поэтому мне кажется, что если человек даже сделал что-то выдающееся, но не получил благодарностей, это лучше, чем стать центром внимания незаслуженно.
- Вы совершенно точно заслуживаете внимания. Концертмейстер, виртуоз, первая скрипка. Кстати, а что значит быть первой скрипкой?
- Первая скрипка, концертмейстер должен обладать набором противоположных качеств. Необходимо уметь играть в группе, в унисон с первыми скрипками, контролировать и коррелировать своё звучание, интонацию, характер штрихов, игровых приёмов. Для этого нужно в некоторой степени подавлять свои личностные качества. Но, как лидер группы первых скрипок и всего оркестра, он должен свои личностные качества проявлять, и особенно это становится важным во время исполнения соло. Существуют также физиологические и психологические проблемы быстрого переключения с игры в tutti на сольную игру. Ещё раз замечу, что концертмейстер - фигура амбивалентная: ведущий по отношению к оркестру и ведомый по отношению к дирижёру.
- В одном из интервью вы сказали, что в оркестре можно деградировать как инструменталист. Это правда?
- Да, очень часто происходят парадоксальные вещи. Деградируешь как инструменталист, зато растёшь как музыкант. Это в том случае, если ты работаешь с высококвалифицированными партнёрами и с хорошими, талантливыми, содержательными дирижёрами. Для того, чтобы избежать этой деградации в оркестре, есть старый дедовский рецепт – надо заниматься, надо поддерживать свою творческую форму, не лениться, делать это ежедневно, бороться изо всех сил. Я никогда не проводил какой-то пограничной, принципиальной черты между оркестровым направлением, камерным и сольным. Всё это различные части одной большой музыки.
- Вам хватает сольных выступлений?
- Наверное, раньше не хватало. Сейчас сил стало поменьше. Но я всегда это любил. У меня много записей - и сольных, и камерных.
- Дирижёрский и композиторский опыт у вас тоже есть. Как бы его оценили?
- Он чрезвычайно важен с точки зрения оркестранта и концертмейстера, и в более широком плане для музыканта и исполнителя, потому что он позволяет мне по-новому взглянуть на вещи. Когда ты сочиняешь сам, меняется отношение к тексту – к подробностям, структуре, значению деталей. Ты понимаешь, что нужно сделать, чтобы звучало убедительно и ярко, а чего делать не следует. И дирижёрская деятельность расширяет кругозор и позволяет взглянуть на проблематику оркестрового исполнительства с другой стороны. Чем больше возможностей расширить свою творческую палитру, тем лучше.
- Как вы думаете, в чем феномен гениальности? Гениями рождаются или становятся?
- Думаю, гениями не становятся. Либо это качество уже заложено в твоей крови, либо не заложено. Я бы, знаете, как поставил вопрос. Талант и гений – в чем разница? По степени одарённости талант и гений могут быть одинаковыми, талант может даже превосходить силу гения. Но разница в том, что талант может реализоваться, а может и не реализоваться. А гений не даст тебе покоя, он будет съедать тебя изнутри, жечь и заставлять полностью использовать все возможности, которые отпущены тебе Богом. Вот в этой непреодолимой тяге к совершенству, к реализации и состоит сущность гения.
- Вы – педагог. Можно ли сразу распознать в ребёнке способности - быть ему выдающимся музыкантом или даже не стоит тратить время на музыкальную школу?
- Конечно, можно. Можно сказать, что вот этот - бездарный, этому вообще учиться не нужно, этот более талантливый, а этот – экстра талантливый. Бывает и так, что поначалу какие-то грани таланта могут быть скрыты и проявляются позже, когда наступит определённая фаза развития. Например, Арам Хачатурян начал заниматься музыкой в возрасте 19 лет!
- А как учились вы – неужели легко и непринуждённо всё детство?
- Вовсе нет, часто с неохотой и через силу. Может быть даже, во мне пропал хороший спортсмен. Ребёнком я был крайне подвижен, непоседлив, меня всё влекло, я был очень азартный. Любые спортивные мероприятия вызывали во мне трепет. Мне хотелось всё бросить и бежать играть в волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис, во что угодно. Что касается занятий на скрипке, я ступил на музыкальную стезю благодаря моему отцу Михаилу Николаевичу Бруни. Он купил для меня скрипку, когда я ещё находился в утробе мамы. Папа был удивительным человеком. Он не стал музыкантом-профессионалом, но он так нежно и трепетно любил музыку, как, пожалуй, никто из тех людей, которых я встречал впоследствии. Папа немного играл на скрипке, но судьба его складывалась таким образом, что реализовать его стремление стать музыкантом было просто невозможно. В 14 лет отец оказался главой семьи, у него было пять младших сестёр, которых надо было кормить. И вместо того, чтобы учиться, он ушёл работать на завод. Моя судьба была предопределена. Отец говорил: «Если в тебе будет хотя бы один процент того желания, которое есть у меня, то ты будешь выдающимся музыкантом». Он сам никогда не отдыхал. Труд был его религией. Он всё время что-то делал и многое умел, человек – золотые руки. И всё, что я умею, по большей части от него. Представляете, до какой степени доходило его стремление беречь время! Вечером он раздевался, снимал майку, а утром надевал, не выворачивая, наизнанку, чтобы сэкономить время. Смешная деталь, но очень характерная. Единственное, что заставляло его прекратить любую работу, - это музыка. Он садился и слушал.
– Я правильно понимаю, что вас всё же приходилось принуждать к занятиям музыкой?
- Конечно! Если сказать честно, - сейчас озвучу не совсем традиционную точку зрения по поводу музыкального образования, - заставлять ребёнка нельзя. Лучше – запрет! «Не смей заниматься, не подходи к роялю, не трогай скрипку». И вот тогда, если ребёнок проявляет настойчивость и всё-таки пытается заниматься, значит его это по-настоящему влечёт, значит, действительно, стоит учиться.
- Свою книгу стихов «Передо мной бумаги белый лист» вы посвятили не только папе, но и дедушке…
- Моего деда Николая Александровича Бруни арестовали после убийства Кирова, конечно же, ни за что. Дед мой был выдающимся человеком: музыкантом, поэтом, прозаиком, переводчиком, настоящим полиглотом, он знал основные европейские языки, изучал эсперанто, был священником и авиаинженером… Ох, когда я касаюсь имени деда, мне кажется, что говорить нужно как-то очень мудро, красиво и содержательно. Жанр словесной импровизации не всегда позволяет наилучшим образом выразить свои мысли. Мне бы хотелось написать о дедушке, прицельно, направленно.
- У Константина Бальмонта есть даже посвящение вашему деду: «Ты музыкант, поэт и лётчик, Ты трижды птица и цветок…» Дед входил в круг великих поэтов Серебряного века?
- Это стихотворение Бальмонт написал на бракосочетание Николая Александровича и Анны Александровны. Да, дед входил в первый цех поэтов. Был знаком с Осипом Мандельштамом, Николаем Гумилёвым, Анной Ахматовой, Рюриком Ивневым и многими другими.
- Дух захватывает от этих фамилий!
- От Николая Александровича чудом дошли более 200 стихотворений, которые были опубликованы в прошлом году…
- Алексей Михайлович, а помните свой первый «бумаги белый лист»? Почему возникла эта потребность писать стихи?
- Конечно, помню. Поначалу это было несерьёзно и немотивировано. Ещё ребёнком я писал какие-то сатирические, пародийные вирши. Потом, уже повзрослев, я вдруг написал несколько стихотворений эпатажного характера, где основным желанием было – сделать не так, как это делается обычно, выразить каждую мысль как-нибудь исковеркано и непривычно. И только потом, начиная с 80 года, я начал более-менее систематически писать, ни в коем случае не считая себя поэтом. Очень спокойно относился к тому, что ничего не издаётся. И до сих пор полностью согласен с точкой зрения, которая тогда у меня была: когда издаешь что-нибудь быстро, потом может быть стыдно за то, что ты написал. Этот критерий чрезвычайно важен – чтобы не было стыдно. Поэтому пусть лучше всё отлежится до тех пор, когда твои собственные предпочтения и вкусы сформируются, и когда начнёшь понимать, что, действительно, хорошо, а что плохо. Так и получилось - от момента, когда я начал писать стихи, до момента, когда была издана книга «Передо мной бумаги белый лист», прошло 20 лет.
- «Пишу не для других, увольте, Мне ноздри не щекочет славы дым». Действительно, никогда не стремились к славе?
- Это написано искренне. Конечно, когда был молодой, мечтал о славе. Но уже после того, как я начал писать стихи и задумываться о проблемах бытия, стал понимать: то, как тебя оценивают окружающие, что о тебе говорят, мало, что значит. Очень часто люди попадают в центр общественного внимания благодаря эпатажу или из-за элементарной нескромности. Люди делают какие-то дикие, нецивилизованные вещи, говорят глупости, демонстрируют чудовищный вкус. И преобладание этого чудовищного вкуса, к большому сожалению, находит отражение в формировании мировоззрения новых поколений, когда в приоритете всё яркое, громкое, блестящее, бесчеловечное и бессодержательное.
- Многие успешные люди признаются, что в детстве читать не любили, тяжело давалось. Как было у Вас?
- Читать я очень любил. Настолько любил, что старался при любой возможности уединиться с книгой так, чтоб меня никто не нашёл. Мальчишкой, до 9 лет, я жил в Тамбове, но уже тогда у меня был особенный путь – по заборам, деревьям, карнизам и крышам к огромному дереву, которое находилось довольно далеко от нашего двора. И в ветвях этого дерева, ближе к вершине, я старался угнездиться, и - читал.
- А что читали?
- Жюля Верна, Александра Дюма всего насквозь прочитал, Майна Рида, Фенимора Купера. Потом приоритеты и пристрастия, конечно, менялись. Начал читать более серьёзную литературу, появилась страсть к философии. Я много философской литературы прочёл. Хотя должен заметить, философия, конечно, прекрасная отрасль человеческой мысли, но она вряд ли даёт короткий путь к счастью. Когда человек слишком много думает, ему тяжелее жить.
- Есть ли у вас главные книги, любимые авторы, те, к которым возвращаетесь чаще всего?
- Пожалуй, прежде всего, это Чехов. Очень его люблю. Совершенно удивительный человек. Уровень его внутренней скромности всегда меня поражал. И выбор лексики - настолько взвешенно, настолько глубоко, и всегда соблюдена грань безупречного вкуса. Ничего лишнего, никакой бросающейся в глаза пестроты. Глубочайшая, тихая, подлинная, непоказная скромность.
- Тем больнее, наверное, читать новости о том, как в Европе Чехова убирают с театральных афиш, как отменяют лекции о Достоевском, запрещают Чайковского и Шостаковича из-за политической ситуации?
- Даже комментировать не хочется - настолько это идёт вразрез с какими-либо культурными взаимоотношениями. Человек – это существо, жизнь которого должна базироваться на культуре. Если эту культуру вычистить, что останется? Ничего! Останется голый скелет потребителя, который съедает столько-то «макдональдсов», столько-то тарелок борща, изнашивает такое-то количество штанов за жизнь. Конечно, больно о таком слышать, просто больно! Хотя и понимаешь, насколько это бессмысленно. Нельзя запретить играть Чайковского! Нельзя запретить великую поэзию! Как нельзя повернуть течение реки вспять.
- С Антоном Павловичем Чеховым по жизни. А есть ли книги, которые в последнее время произвели на вас впечатление?
- Мне попалась очень хорошая книга, которую я с огромным удовольствием прочёл. «Ложится мгла на старые ступени» Александра Чудакова. Она мне как-то по сердцу пришлась. Эта книга о времени моего детства и юности. Какое точное описание обстановки, предметов, человеческих взаимоотношений! Удивительно правдиво, ненавязчиво, мило. Замечательное произведение. Очень рекомендую.
- Не могу не спросить про любимую музыку?
- Когда я был молодым, у меня музыка подразделялась на «Бах» и «не Бах».
- А Моцарт где? Тоже не Бах?
- А Моцарт - тоже не Бах! (смеётся)... Конечно же, сейчас я не так категоричен. Есть и Моцарт, и Гайдн, и Бетховен, и много других композиторов. Иногда я люблю слушать таких композиторов, которых мало кто знает, и мало кто вспомнит. Йозеф Сук, например. Такие у него милые пьесы, так мастерски написаны, такие вдохновенные и обаятельные. Или француженка Лили Буланже, с самых ранних лет обнаружившая композиторский талант. Она стала первой женщиной, получившей Римскую премию за кантату «Фауст и Елена» и право стажироваться в Риме. Но тяжело заболела и умерла в 24 года, оставив хотя и не большое, но крайне интересное музыкальное наследие. Знаете, так отрадно бывает знакомиться с жизнью людей, которых не то, чтобы обошла слава, но которые явно не получили того, чего заслуживали. Но время расставляет всё по местам. Если человек создал что-то значительное, так или иначе он прорвётся к слушателю, к зрителю. Или вот немецкий поэт и драматург Георг Бюхнер. Он умер в 23 года и написал всего три пьесы, но, тем не менее, – остался.
- Расскажите, чем вы сейчас живёте, какими планами, идеями заняты?
- Я практически всегда над чем-то работаю, что-то пишу. У меня несколько стихотворений сейчас в работе. Ещё, можно сказать, надо мной висят долги. Очень мне хочется закончить эти работы. Я пишу трансцендентные этюды для скрипки. Мне хочется сделать цикл из 24-ёх, пока написал половину. Знаете, чем они характерны? Исключительной трудностью! Чаще всего для того, чтобы вложить эту двигательную информацию, мне приходится для неаккомпанированной скрипки писать на двух строчках. И когда исполнители видят такой текст, чаще всего у них глаза лезут на лоб. Вообще непонятно, как играть и с какой стороны к этому подходить. Но всё это абсолютно исполнимо и даже по-своему относительно удобно - всё логично, каждый палец на своём месте. Использую свои аппликатурные схемы, которые в скрипичной литературе или встречаются редко, или вовсе не встречаются. Двухголосные этюды, два на три, три на четыре и три на пять. Вот как это играть, не совсем понятно - пальца у нас всего четыре, а каждая маленькая долевая группа требует как минимум три плюс четыре, это уже семь. Значит надо семь пальцев! Приходится обходиться четырьмя.
- Но зачем же такие сложности, Алексей Михайлович?
- Во-первых, для развития. Мне интересно освоить такие формы движения, такую форму координации. А во-вторых, я ставлю художественные задачи.
- Раздвигаете границы возможного в музыке?
- В известном смысле - да! Мне представляется, что если исполнитель разгрыз такой уровень сложности, ему будет легче существовать на инструменте… Есть у меня ещё одно острое желание - завершить пьесу, которая фрагментарно показана в книге «Передо мной бумаги белый лист». Но что-то всё время отвлекает, отвлекает, отвлекает бесконечно.
- Но вы всё же найдите время и обязательно напишите книгу о своём дедушке, об истории дворянского рода Бруни. Она ведь уникальна, так много тяжёлых судеб…
- Совершенно с вами согласен! Чувствую в себе не только потребность, но и ощущение долга, что это нужно сделать. Слишком выдающейся фигурой был мой дед. Про него существует роман, который меня совершенно не удовлетворяет, ну никак. Даже не хочу говорить, а то начну сердиться. А сердиться нехорошо.
Интервью: Елена Кочемасова