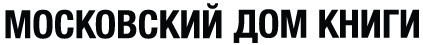- Владимир, в каком возрасте вы начали писать стихи?
- Довольно поздно – в 14-15 лет. И в тех моих начальных опытах был полный набор тем, свойственных молодой поэзии – любовь, лето, камыши, луна... Однажды я, как человек не равнодушный к спорту, написал стихотворение о мальчике, который во время футбольного матча подает мячи. Я его сравнил с собой: мол, мы пока с тобой подаем мячи, но скоро станем игроками! И это даже было напечатано… Я показывал свои стихи мэтрам и помню всех, кто меня поощрял, оценивал - это и незабвенный Лев Озеров, и Евгений Долматовский, и Римма Казакова, и Олег Дмитриев, и Юрий Ряшенцев, и Владимир Карпеко, и Олег Чухонцев, совершенный наш классик… Поэтому и я по мере сил стараюсь оказывать поддержку молодым. Например, помог с первой книжкой замечательной поэтессе из города Добринка Липецкой области Яне Акулининой. Сейчас она как поэт уже довольно известна. Конечно, мне часто присылают стихи, иногда совершенно жуткие. Но я всегда стараюсь ответить так, чтобы это было честно и, в то же время, не убивало в человеке желания писать. У меня даже есть такой типовой ответ, никого не унижающий: «В том, что вы пишете, ощущается излучение счастья от написания стихов. Вот и пишите, получая от этого удовольствие. И никого не слушайте, даже меня». Я сейчас вообще не использую слово графоман. И профессиональный поэт должен быть в здоровом смысле графоманом, то есть многопишущим. Что мне, например, не всегда удавалось. Есть такое слово, менее известное, метроман – человек, любящий писать стихи. Вот им я теперь пользуюсь и никого не приговариваю к званию графомана.
- В одном интервью вы говорили, что важную роль в вашей судьбе сыграл поэт Алексей Дидуров и созданное им литературное кабаре «Кардиограмма». Что это было за место и какое значение оно имело для творческой молодежи? Есть ли что-то подобное в Москве сейчас?
- Да, с конца 80-х до середины 90-х каждую субботу я, предвкушая, летел в Дом культуры энергетиков, это был первый адрес «Кардиограммы», потом - в ЦДЛ, еще позже нам дал приют Еврейский культурный центр. Мы еще шутили, что когда-то русские прятали евреев от фашистов, а теперь евреи прячут русского Дидурова. Его, человека замечательного, но сложного, конфликтного, вместе с кабаре всегда откуда-то убирали. Алексей сам меня выдернул, когда я был молодым. Мы стали общаться и дружить. Его квартира была поистине литературным музеем. Такая типично московская коммуналка – с грохотом кастрюль, с какими-то скандалами. Но, слава богу, Алексей дожил и до книг, изданных при жизни, и до переезда в отдельную квартиру, хотя он был запрограммирован на всё посмертное. Не типичный случай. Но жизнь вот таким образом ему улыбнулась… Вся страна знает песни из фильма Владимира Меньшова «Розыгрыш», написанные на стихи Дидурова - «Когда уйдем со школьного двора», «Песня о первых летних дождях»… Он был замечательный песенник. И мой друг, прекрасный актер, к сожалению, тоже от нас ушедший, Владимир Качан сделал цикл песен на стихи Алексея, с которыми выступал на вечерах, посвященных памяти Дидурова, умершего от инфаркта в 2006 году, в 58 лет. Я считаю, что это был большой трагический русский поэт и наш, можно сказать, вождь и учитель. Через его кабаре прошли поэты, писатели, музыканты, ставшие, без преувеличения, знаковыми фигурами: Дмитрий Быков, Инна Кабыш, Лена Исаева, Виктория Иноземцева. В кабаре бывали Виктор Цой, Аркадий Арканов, Виктор Коркия… Конечно, этот замечательный очаг культуры был приметой своего времени. Ничего подобного в Москве, по-моему, сейчас нет. Но Дидуровская стихия осталась. Есть портал, посвященный «Кардиограмме», в клубе «Высоцкий» мы проводили фестиваль его памяти, готовится к изданию книжка участников кабаре, каждый год мы, куда бы судьба нас не забросила, собираемся 17 февраля, в день рождения Алексея… Так что «Кардиограмма» живет и действует, хотя и как виртуальная структура.
- И сколько наверняка воспоминаний оставили те дни.
- Много! Например, помню, как мы с Алексеем в 1988 году поехали выступать в военный госпиталь в Купавну, где лечились афганцы. В зале сидели 20-летние ребята в больничных пижамах, у кого руки нет, у кого ноги. И я всё думал: что читать из моей жизнерадостной поэзии, чтобы их не резануло? Задача наисложнейшая, даже неподъемная. И хотя я заранее просканировал свои стихи – отобрал, но всё равно споткнулся, потому что прочитал то, что не нужно было. Вообще всю программу не надо было читать. Вот в такие ситуации попадали… Мы выступали с Алексеем по линии Бюро пропаганды (Дидуров меня рекомендовал), что позволяло получать по 8 или 12 рублей. Мы читали стихи на разных предприятиях, в лимитных общежитиях, где девушек в халатиках сгоняли в красный уголок, чтобы послушали поэтов… Однажды я даже участвовал во вручении паспортов пэтэушникам, и сорок рукопожатий чуть не повредили мне правую руку (смеется). А однажды при входе в общежитие, где мне предстояло читать стихи, я увидел что-то вроде афиши: «Сегодня в красном уголке в 19.00 состоится встреча с комсомольцем 20-х годов Вишневским». (Смеется.) А у Дидурова на двери висело прекрасное объявление на тетрадочном листе: «Вслушайтесь! Сегодня в красном уголке состоится встреча с писателем Дидюриным. Читает стихи, играет на гитаре, рассказывает об искусстве, срезает мозоли…» Это всё, так сказать, милые приключения наших первых публичных проявлений, когда мы стали жить литературой. Окуджава, который очень любил Алексея, сказал: «Старик, начинаешь вести жизнь артиста!» Потом я узнал от Дидурова, что Окуджаве и мои стихи были известны, но познакомится с Булатом Шалвовичем мне так и не довелось…
- Теперь вы сами – мэтр и, наверное, в курсе, есть ли у сегодняшних молодых поэтов возможность заявить о себе, получить профессиональную оценку, поддержку?
- Вы знаете, время от времени проходят разные поэтические конкурсы, в некоторых я участвую как член жюри. Например, недавно меня в качестве почетного гостя приглашали на фестиваль молодой поэзии «Филатов-Фест», который проводит поэт и актер Влад Маленко. Надо сказать, что достойный уровень сегодняшней и завтрашней молодой поэзии на нем был ярко явлен, настолько ярко, что перед жюри стояла непростая задача назвать победителей. И в этом выражается наш вечный интерес к поэзии, которой, на мой простодушный взгляд, никакой кризис в России не грозит, потому что сама почва российская располагает к поэзии, дышит, пульсирует током поэзии.
- А что скажете о Всероссийском дистанционном конкурсе «Лето. Лагерь. Like», в котором одна из «номинаций» - авторская поэзия, и вы – член жюри? Там же соревнуются совсем юные – от 7 до 17 лет.
- Да, этот конкурс – он для совсем начинающих. Но тут я могу процитировать Маршака, который сказал: «Зачем о молодости лет / Ты возвещаешь публике читающей?/ Тот, кто еще не начал, – не поэт,/ А кто уж начал, тот не начинающий». В нашем деле долго быть в статусе начинающего, с соответствующей скидкой на это, не удастся, да и не нужно. Выходя на публику со своими стихами, ты вступаешь, так сказать, в зону оценок по гамбургскому счету, без поблажек. Что же касается конкретно этого конкурса (его организатором является НОФП «Детская Республика «Поленово» и проводится он среди детских оздоровительных лагерей), то хочу сказать, что по сравнению с предыдущим годом уровень присланных работ несколько подрос. Конечно, много наивного, непрофессионального, но это нормально. Тем не менее, у некоторых участников, я считаю, есть поэтическое будущее. Конечно, нам, членам жюри, хотелось всех ребят поощрить и никого не оставить в статусе проигравших, но, поскольку нашей задачей было сделать выбор, мы его сделали. Однако я считаю, что проигравших здесь действительно нет, и всячески приветствую этот конкурс, который себя уже утвердил. Те из юных поэтов, кто за ним следил, но не выставлял свои сочинения, может это сделать в текущем году, конкурс уже стартовал. Вообще я считаю, это очень правильное дело – создавать такой… соревновательный помост для молодых поэтов.
- Не кажется ли вам проблемой то, что молодые авторы зачастую переоценивают свои способности, выпускают книги за свой счет, и тем самым, скажем так, дезориентируют читателя?
- У меня на это взгляд такой - свободный, щадящий и добрый. Считаю так: если есть возможность и денежка издать себя за свой счет – пожалуйста. Хотя я всех призываю перед таким шагом проводить личный отбор - лучше, чтобы было двадцать крепких стихотворений, чем сорок - разных. Прежде всего, к себе нужно предъявлять требовательность. Но, понимаете, наличие собственной книги - это великий вдохновляющий момент. Взять ее в руки, перелистать, надписать кому-то… Поэтому - пусть будут книги хорошие и разные. Хотя, соглашусь, разных больше, чем хороших. Но, тем не менее, вспоминая свою юность, когда меня не печатали, когда писал в стол, я положительно оцениваю день сегодняшний. Сегодня каждый может обнародовать свои стихи, скажем, на сайте «стихи.ру». Там много дикого, жуткого, но есть и хорошее. У людей появилась возможность самообнародоваться (это мое слово) – и это здорово. Как говорил Мао Цзэдун, пусть цветут сто цветов. А читатель разберется. Люди ведь голосуют рублем за книгу - она продается или не продается. Кем-то из молодых авторов движет жажда самовыражения, кто-то соблазняется примерами тех, кто обрел славу… Хотя большой славы путем поэзии сейчас получить, наверное, невозможно, но ты получишь адекватный отклик. Можно остаться безызвестным, а можно известным, или даже звёздно известным, как, например, хороший поэт Вера Полозкова. Поэтому, я считаю, пусть пишут, а читатель сделает выбор. Если поэзия помогла стать лучше хотя бы одному человеку – самому автору – уже хорошо.
Интервью: Марина Бойкова